Слон в склепе
Об «Электрическом животном» Акиры Мизуты Липпита
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
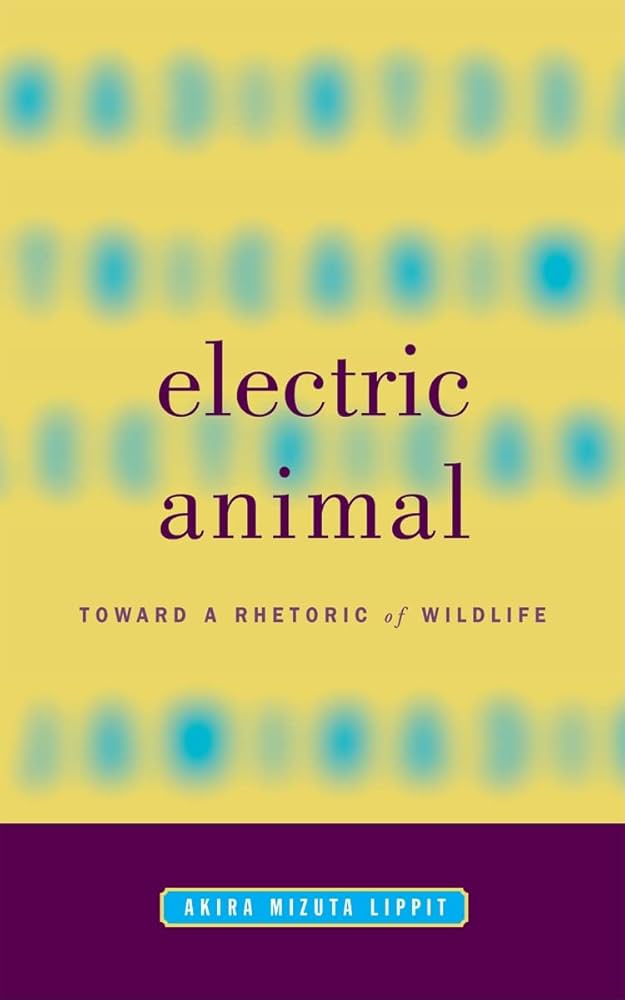 Akira Mizuta Lippit. Electric Animal. Toward a Rhetoric of Wildlife. Minneapolis: Univ Of Minnesota Press, 2000
Akira Mizuta Lippit. Electric Animal. Toward a Rhetoric of Wildlife. Minneapolis: Univ Of Minnesota Press, 2000
В 2007 году Гарриет Ритво написала статью «Поворот к животным», в которой зафиксировала рост числа исследований, посвященных нечеловеческим видам. Такие исследования заметно отличались от зоозащитных проектов прошлых десятилетий (Рут Харрисон, Питер Сингер, Том Риган), хотя авторы и тех и других текстов стремились пересмотреть статус нечеловеческих животных в современном мире и зачастую работали на перекрестье нескольких дисциплин.
Сейчас русскоязычным читателям доступны, например, такие книги, написанные на волне животного поворота: «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?» Франса де Вааля, противопоставляющего методы бихевиористов и этологов и размышляющего о различных навыках нечеловеческих видов через инструментарий эволюции познания; «Опоссум Шредингера. Смерть в мире животных» Сусаны Монсо, в которой утверждается, что некоторые виды имеют представление о смерти; «Необъятный мир» Эда Йонга, где на основании данных сенсорной зоологии описаны уникальные и разнообразные животные миры.
Кроме того, в издательстве «НЛО» выходили «История животных» Оксаны Тимофеевой и «Рынок удобных животных» Кати Крыловой. И если переведенные книги представляют собой скорее научно-популярную литературу, то последние два текста относятся к области гуманитарного знания, а их авторки прослеживают влияние, оказанное нечеловеческими видами на человеческую культуру.
Однако в этой библиографии не хватает вводного и объемного исследования, в котором автор обращался бы к фигуре животного и обозревал ее роль и положение в современности, искусстве, языке, ее влияние на науку и технику. В 2000 году в издательстве Университета Миннесоты была опубликована такая книга — «Электрическое животное: к риторике дикой природы» исследователя медиа, кино и критической теории Акиры Мизуты Липпита.
Книга до сих пор не переведена с английского, хотя русскоязычному читателю может быть известна по упомянутым работам Тимофеевой и Крыловой — авторки обращаются к «Электрическому животному» в контексте проблемы исчезновения животных из современности (этот тезис запускает исследование Липпита).
Как рассказывал Липпит в интервью для радиопрограммы Animal Voices, «Электрическое животное» выросло из докторской диссертации, в которой главным образом рассматривается момент возникновения кино в конце XIX века. Текст развился в объемную книгу, посвященную не только кинематографу, но и технологиям, современной литературе, психоанализу и философии — через фигуру животного. Смелый экскурс Липпита в смежные области знания придает книге обзорный характер, поэтому «Электрическое животное» можно рекомендовать в качестве вводного текста тем, кто интересуется положением животных в современной культуре в разных ее проявлениях.
 К животному влиянию на становление кинематографа Липпит обратится только в последней главе, посвященной «аниметафорам», а отправной точкой для исследования стало популярное эссе Джона Берджера «Зачем смотреть на животных», в котором критик пишет об исчезновении животных из повседневности и их перевода в продукты материальной культуры — в виде пищи, изделий, в формате каталога в зоопарках, в качестве удобных домашних питомцев. Липпит подхватывает этот тезис Берджера, однако находит необходимым переопределить статус животных в современном мире — спустя чуть более чем двадцать лет с момента написания эссе. Животные не просто исчезают — теперь на их месте зияет отсутствие, они рассеяны в языке, по различным медиа, затворены в технологиях.
К животному влиянию на становление кинематографа Липпит обратится только в последней главе, посвященной «аниметафорам», а отправной точкой для исследования стало популярное эссе Джона Берджера «Зачем смотреть на животных», в котором критик пишет об исчезновении животных из повседневности и их перевода в продукты материальной культуры — в виде пищи, изделий, в формате каталога в зоопарках, в качестве удобных домашних питомцев. Липпит подхватывает этот тезис Берджера, однако находит необходимым переопределить статус животных в современном мире — спустя чуть более чем двадцать лет с момента написания эссе. Животные не просто исчезают — теперь на их месте зияет отсутствие, они рассеяны в языке, по различным медиа, затворены в технологиях.
Поэтому, как пишет Липпит, «задача этого текста — восстановить следы животности, вспомнить животных». Животные исчезли не только из эмпирического мира, из повседневности и городской среды: автор разбирает уникальный случай неврологического заболевания — паранеопластической энцефалопатии, в результате которой пациентка не смогла вспомнить и описать внешние характеристики нечеловеческих животных (рассказать об их образе жизни и привычках она могла). Этот кейс, считает Липпит, требует переопределить топографию нечеловеческого животного в современности и, в частности, его место в сознании человека.
Язык является границей между миром животных и людей (эту аксиому Липпит выводит через анализ ключевых философских текстов континентальной традиции), без языка животные не могут быть причастны к человеческому миру. Случай паранеопластической энцефалопатии свидетельствует об особенностях восприятия животных людьми (единичный медицинский кейс позволяет автору утвердить тезис о повсеместном исчезновении животных, однако иллюстрировать общее положение через частный случай кажется нам не вполне корректным).
Животное исчезает, но не умирает, так как не может умереть. Это очень важное уточнение Липпит делает еще во введении и расширяет в первой и второй главах, посвященных философии и животному миру: он анализирует философские тексты от античности до Декарта, Гегеля и затем Ницше и Хайдеггера. Липпит описывает логику изгнания нечеловеческих животных философами: «Исключение животных из мира, установленного языком, отсутствие смерти в жизни животного и, следовательно, его неуничтожимость». Животное необходимо спасти от исчезновения — найти пространство, где оно может быть архивировано: «Оно должно быть перенесено в другое место, другой континуум, в котором смерть не играет никакой роли. Животное должно быть превращено в криптологический артефакт».
Здесь необходимо уточнить, о каких животных пишет Липпит, иначе многие его тезисы можно подвергнуть сомнению с позиций этологии и других дисциплин. Когда он пишет «животное», то имеет в виду анимальность как категорию и качество. Животное у Липпита не конкретизировано, оно не является представителем определенного вида, оно — анонимная множественность, особый «тип коллективной жизненной силы». Липпит работает с животным как концептуальной фигурой.
 Отсутствие языка и обеспеченное им бессмертие (мы можем предложить неологизм «внесмертие») нечеловеческих видов необходимы для конституирования различия: «Для Хайдеггера, как и для западной философской традиции, которую он поддерживает, язык устанавливает пропасть между людьми и животными». Запах для животного подобен по своей эпистемологической роли языку для человека. Но запах подвержен стиранию, его свойство — эфемерность. Язык же укоренен в человеческом сознании и порожденных им артефактах, он способен перерабатывать мир. Стирание запаха напоминает Липпиту о тезисе Хайдеггера, утверждавшего, что животный мир предстает как мир, непрерывно подверженный стиранию.
Отсутствие языка и обеспеченное им бессмертие (мы можем предложить неологизм «внесмертие») нечеловеческих видов необходимы для конституирования различия: «Для Хайдеггера, как и для западной философской традиции, которую он поддерживает, язык устанавливает пропасть между людьми и животными». Запах для животного подобен по своей эпистемологической роли языку для человека. Но запах подвержен стиранию, его свойство — эфемерность. Язык же укоренен в человеческом сознании и порожденных им артефактах, он способен перерабатывать мир. Стирание запаха напоминает Липпиту о тезисе Хайдеггера, утверждавшего, что животный мир предстает как мир, непрерывно подверженный стиранию.
Липпит пишет: «Животное обосновалось в новой топологии, а человечеству пришлось оплакать утрату своего прежнего „я“», а затем и исчезновение животных. Гуманизация с ее сомнительными методами и результатами сопровождалась трауром, меланхолией и скорбью человечества по этой потере.
Последствие траура по нечеловеческим видам — изобретение методов архивации фигуры животного. Один из них — заключение в «склепе»: склепе техники, литературы, кинематографа, языка и бессознательного.
Липпит обращается к текстам Йозефа Брейера, посвященным, помимо прочего, исследованиям истерии и диссоциации, и обнаруживает, что психоаналитик использует образ животного не как «символ дикой природы, а как символ плена» (он сравнивает «его [пациента, страдающего истерией] ограниченность, его сдерживаемую энергию» с метаниями запертого в клетке животного). Еще одну метафору, используемую Брейером в той же работе и не связываемую с образом животного, подхватывает Липпит и совмещает в названии книги с предыдущей — метафору электричества.
 Электрическое животное — животное нашей современности, лишенное дикости, собственного тела и рассеянное по различным медиа, оформленное в репродукциях, укорененных в повседневности. Липпит обнаруживает: лошадиная сила — метафора мощности автомобиля, анимацией названа технология создания иллюзии движущегося изображения. Предлагаем читателю самостоятельно продолжить этот ряд актуальными примерами эксплуатации животной фигуры в качестве метафоры в русскоязычном дискурсе.
Электрическое животное — животное нашей современности, лишенное дикости, собственного тела и рассеянное по различным медиа, оформленное в репродукциях, укорененных в повседневности. Липпит обнаруживает: лошадиная сила — метафора мощности автомобиля, анимацией названа технология создания иллюзии движущегося изображения. Предлагаем читателю самостоятельно продолжить этот ряд актуальными примерами эксплуатации животной фигуры в качестве метафоры в русскоязычном дискурсе.
Липпит вспоминает введенный Деррида термин «аниметафоральность» и преобразует его: «Между животным и метафорой обнаруживается фантастическая трансверсальность — животное уже является метафорой, метафора — животным. Вместе они переносят в язык, вдыхают в язык витальность другой жизни, другого выражения: животное и метафора, метафора, ставшая плотью, живая метафора, которая по определению не является метафорой, антиметафора — „аниметафора“. Аниметафора может также рассматриваться как бессознательное языка, логоса».
Он цитирует Деррида: «Метафора всегда несет в себе смерть». И комментирует: «Живая метафора, аниметафора, проецирует свою конечность, всегда предвосхищая свое исчезновение».
Особенность аниметафоры в том, что она — видимо, в силу особой онтологии животного — не снимается, не поглощается языком, а «инкорпорируется как предел». Аниметафора не до конца метафора, она вмещает в себя значения, но в буквальном, а не в переносном смысле. Разрушая метафору, стирая ее пределы, животное становится фигурой «скорее метаморфической, чем метафорической». Животное противоположно метафоре; нечеловеческое существо не подобно чему-то, оно преобразуется во что-то, оно и есть это — здесь заключена буквальность аниметафоры.
Что такое «языковой предел»? Это предел выразимого. Подробнее об этом термине сказано в последней главе «Электрического животного», где рассматривается, помимо прочего, феномен фотографии (хотя автор не делает специальную оговорку, рассматривает он конкретный жанр внутри фотографии — человеческий портрет). Она удерживает в себе противоречивые значения — бессмертие образа и фактичность смерти позирующего. Портретируемый утрачивает субъектность, утрачивает свое тело, подготавливая собственный образ. Липпит обращается к знаменитому эссе Ролана Барта «Camera lucida», где он разрабатывает феноменологию фотографии: «По мнению Барта, фотография сохраняет в настоящем будущую смерть объекта». Французский философ нарекает эйдосом фотографии Смерть.
Фигура животного — предел описательной способности языка (в этом животное подобно фотографии). И животное, и фотография в его исследовании предстают в роли особых семиотических систем, «опосредованных логикой бессознательного и силами фантастической наглядности». Липпит обнаруживает, что «животное», «фотография», «бессознательное» оказываются связаны друг с другом в гуманитарной мысли второй половины XIX века, а объединяет их особая способность к анонимизации, стиранию индивидуальности, субъектности: «Каждый термин определяет или изображает определенный локус бытия, который не может быть заселен субъектом <...> Можно интерпретировать животное как версию бессознательного в природе, а фотографию — как технологическое бессознательное».
Фотография указывает на предел языка, подобно животному, которое бессмертно, дискурсивному животному, не умирающему, но исчезающему из феноменального мира. Нечеловеческие виды мигрируют, возрождаются в пространстве человеческого воображения и его производных. Как и фигура животного, сфотографированный человек лишится своего тела, исчезнет из эмпирического мира, но останется в пространстве символического, в некой медиальной системе. По мнению Липпита, это происходит из-за того, что фигура животного в языке и человек на фотографии лишены субъектности, индивидуальности.
Липпит утверждает, что животное «паразитирует» на языке, анимальность пронизывает язык и заражает его: «Животные истощают философию, истощают логос». И «только в литературном тексте животное остается чужеродным элементом в теле, в то же время не разрушая это тело необратимо». На наш взгляд, скорее философия, литература и язык истощают фигуру животного — человек вчитывает в нее важные для него значения. Помещение символического животного в пространство языка снимает с него множество невыразимых, во многом недоступных человеку особенностей его мира, его взаимодействия со средой, его тела. Животное контейнирует человеческие представления о морали, представления о самих животных, воплощающих антропоморфные качества. В нечеловеческое тело встроены человеческие нарративы. Об этом пишет, помимо прочих, Рози Брайдотти в «Постчеловеке»: «Животные издавна выражали социальную грамматику добродетелей и моральных различий в интересах людей. Эта нормативная функция была увековечена в моральных классификаторах и когнитивных бестиариях, превращающих животных в метафорические объекты норм и ценностей».
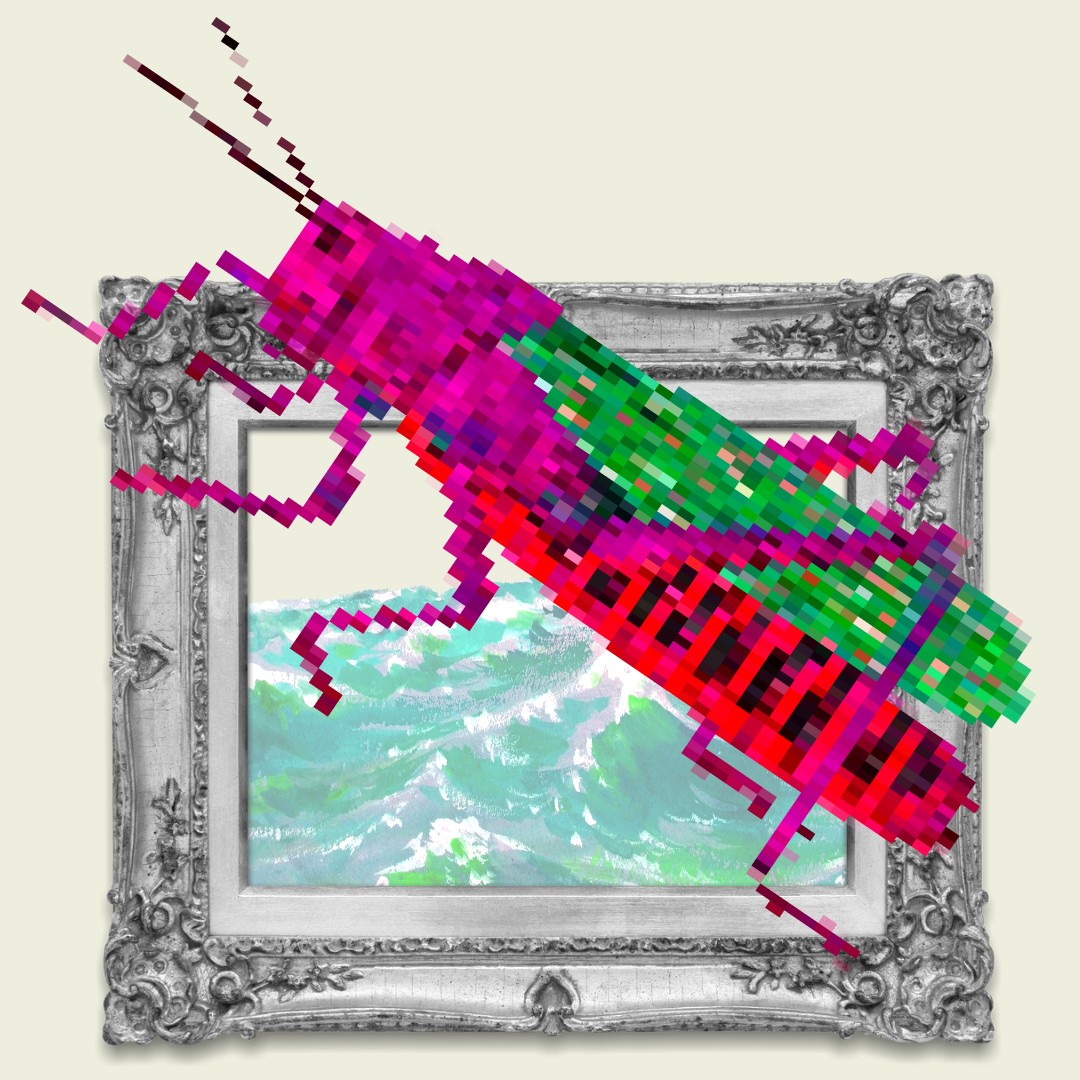
Такое переозначивание животных превращает их в объекты, лишает субъектности и собственных уникальных миров, денатурализует их тела, которые человек поглощает — на буквальном уровне — или перерабатывает на уровне символическом. Брайдотти предлагает такое решение: «Суть в том, чтобы перейти к новому виду отношений — животные больше не являются системой означаюших, представляющих собой проекцию человеческих представлений о морали. Они нуждаются в новом непосредственном подходе как к иной кодовой системе или их собственной „зоонтологии“». Липпит же пишет: «Животные, по-видимому, нуждаются в некой форме посредничества или аллегоризации — некоторой первоначальной транспозиции в язык...»
Обращаясь к философии, литературе XX века, психоанализу и фотографии Липпит обнаруживает, что животное имеет свою сферу бытия, является посредником «между телесностью мозга и идеальностью разума»; он обозначает глубинную метафорическую связь животного с продуктами человеческой культуры, его следы в человеческом бессознательном, анализирует становление животным через литературу, описывает гибрид фигуры животного и техники. В общем, исчезновение феноменального животного только расплодило животных дискурсивных и рассеяло их в самых разных продуктах человеческой культуры. Наконец, в последней главе Липпит пишет про машины, производящие аниметафоры, среди которых расположен и кинематограф — медиум, являющий собой гибрид, собирающий в себе инструментарий литературы, наглядность фотографии, привносящий в нее иллюзию движения; гибрид человека и техники, сверхмедиум. Именно кино с его способностью разнообразно обозреть, озвучить, рассказать, возникшее в том числе из-за особой внимательности к животным мирам, оказалось способно эти недоступные обычному глазу, привычному восприятию, разнообразные уникальные животные миры вынести на экран, освободить «силами фантастической наглядности». Относительно кинематографа вообще было слишком много ожиданий.
Липпит вспоминает Эдварда Мейбриджа, зачарованного связью между животным и движением, «как если бы фигура животного всегда была предназначена для того, чтобы служить символом самого движения». В опытах Мейбриджа по запечатлению движения животных Липпит обнаруживает очередную попытку противостояния исчезновению животных из современности. Затем Липпит вспоминает Томаса Эдисона.
В «Электрической казни слона» (1903), фильме, часто упоминаемом в различных текстах, совмещающих киноведческую перспективу и исследования животных, сходятся ключевые индексы его книги: животное, электричество и смерть. Убийство слонихи Топси электрическим током — кульминационный момент фильма, то ради чего он был снят, зрелищный технологический аттракцион. Очень важно, что техника фиксирует как техника же убивает нечеловеческое существо. Здесь традиция символизации ломается через новый вид аттракциона, игрушки для нерефлексивного и пришедшего за неким аффектом зрителя. Этот технологический перформанс — жестокое зрелище, ценное уже самой своей жестокостью и технологической природой — приходится на детство кинематографа и, как пишет Липпит, «символизирует неразумность медиума».
Животные Мейбриджа «оживали» на его сериях снимков (серия анимирует движущийся объект), его привлекала сама механика их движений, которую невозможно было наблюдать без посредничества машин зрения (как невозможно было ее проследить, умертвив животное). Галоп лошади, бег собаки, взмах птичьего крыла самоценны. Не нужно ни аттракциона, ни истории — удовлетворяется сама «страсть к зрению» (по выражению кинотеоретика Алексея Гусева), зритель заворожен динамикой оптической иллюзии. Как нам кажется, эту (прото)кинематографическую модель Мейбриджа, предлагающую опыт созерцания Другого (человеческого, нечеловеческого, неодушевленного), можно противопоставить аттракционной кинематографической модели Эдисона, фетишизирующей зрелище (подразумевая эксплуатацию Другого, разрушение его мира в угоду развлекательному действию). Липпит ограничивает свое исследование связи животного и фильма периодом раннего кино. Несмотря на то что кинематограф лучше всего «воплотил перенос животных из природы в технологии», несмотря на весь его эмансипаторный потенциал, он, на наш взгляд, так и не стал тем медиумом, который мог бы архивировать фигуру животного, не подвергая его мир символическому опустошению (пусть в современном кино есть единичные исключения).
Возможно, «Электрическое животное» сегодняшнему читателю покажется не вполне учитывающим агентность нечеловеческих существ. Акира Мизута Липпит не ставит себе задачу исследовать самих животных, как не стремится радикально пересмотреть наши с ними отношения. Более того, Липпит работает со следами животных в человеческой культуре, не рассматривая нечеловеческие виды как таковые.
Тем не менее исследователь обнаруживает, как животная фигура гибридизировалась с технологиями и некоторыми элементами городской среды XX века, как она встроилась в язык, в человеческое бессознательное. Наконец, какое место ей было предложено в новом медиуме, способном буквально менять оптику зрителя, — в кинематографе — и как он с фигурой животного на заре своего существования расправился на символическом и физическом уровнях. Это междисциплинарное обзорное исследование, как нам кажется, ждет перевода — и легко найдет своего читателя.