Скомкать ворох птиц и выбросить птиц
Три поэтические новинки: обзор Льва Оборина
Дмитрий Воденников. Стихи обо всем. М.: Эксмо, 2020
 «Стихи обо всем» — компактное воденниковское избранное. Сюда включены «объективно лучшие стихотворения» поэта (в случае с Воденниковым «объективно» значит, видимо, что они отобраны им самим). Сложно писать об этих стихах сегодня, через пятнадцать, двадцать лет после их первой славы — сам факт выхода второго best of за два года (предыдущее появилось в 2018-м в «Азбуке») говорит о канонизации, на которую стихи Воденникова всегда — самим своим устройством, своей риторикой — претендовали. Там, где биография подсовывала римейк битвы за титул короля поэтов между Маяковским и Северяниным, сами стихи намекали на наследование королевской осанке Ахматовой («Анна Андревночка, здравствуйте!»):
«Стихи обо всем» — компактное воденниковское избранное. Сюда включены «объективно лучшие стихотворения» поэта (в случае с Воденниковым «объективно» значит, видимо, что они отобраны им самим). Сложно писать об этих стихах сегодня, через пятнадцать, двадцать лет после их первой славы — сам факт выхода второго best of за два года (предыдущее появилось в 2018-м в «Азбуке») говорит о канонизации, на которую стихи Воденникова всегда — самим своим устройством, своей риторикой — претендовали. Там, где биография подсовывала римейк битвы за титул короля поэтов между Маяковским и Северяниным, сами стихи намекали на наследование королевской осанке Ахматовой («Анна Андревночка, здравствуйте!»):
А то, что мне объятий не хватало,
так это, деточка, все как бы да кабы. —
Зато хватило — голоса, металла,
Таблеток, áлкоголя, мужества, судьбы…
Воденниковские стихи появились в то время, когда русская поэзия обучалась новому дыханию — и поэтому строки «Я так умею воздухом дышать, / как уж никто из них дышать не может» легко было принять на веру. Спасение лежало в области эстетизации личного и физиологичного, капризной возгонки телесной тривиальности до цветущего гротеска: «Так много стало у меня пупков и сердца, / что, как цветочками, я сыплюсь в темноте». Личная мифология, личное окружение оказались слагаемыми успеха: улица Стромынка, названные по имени «Баранов, Долин, я, Шабагутдинов», и, конечно, небесная лиса такса Чуня — призваны действовать так же, как «Я живу на Красной Пресне» и «Четверо в помещении — / Лиля, Ося, я / и собака Щеник» у Маяковского. Но Воденников совсем иначе подходит к идее поэтической искренности, открытости. Декларируя ее, он ее в то же время утаивает. В его стихах всегда должен быть какой-то полуповорот, секрет, взмах ткани — «другие носят длинное пальто / (мое несбывшееся, легкое мое)» — в щегольских прорехах неточных рифм. Читателю дозволяется уловить момент между надменностью и наивностью — не больше.
А линия собственной жизни — она не в пример длиннее…
Грозу обещают к полудню, а он не надев штаны
Бреется хмуро в ванной — и вдруг вглядывается и немеет
от крепкой своей мужской мальчишеской красоты.
Это написано не про себя — и в то же время про себя. Для стихов Воденникова, вообще-то населенных другими людьми («Как Н. Хрущев засеял кукурузой / все подмосковные совхозные поля, / так я засеял всю литературу, / в стихи натыкав — ваши имена»), необходимо «присутствие себя». Необходим образ поэта, кормящего читателя «крупной брусникой». В «Стихах к сыну», где, как часто у Воденникова, с поэтическим текстом чередуется прозаический, важнее всего вживание в фантомную роль отца с красивой, уязвимой надменностью: «Это просто поразительно. Я им про то, что я космическая сирота в этом мире насилия и наживы, а они мне — о каких-то овощах и про одноразовое пюре». В стихах и поэме, обращенных к таксе Чуне, собака — и ее хрупкость и смертность — вновь становятся зеркалами, в которые вглядывается говорящий:
…Если честно, все смерти, чужие болезни, проводы
меня уже сильно достали — я чувствую себя исчервленным.
Поэтому я собираюсь жить с Жозефиной Тауровной, с Чуней Петровной
в зеленом заснеженном городе, медленном как снеготаянье.
А когда настоящая смерть, как ветер, за ней придет,
и на большую просушку возьмет — как маленькую игрушку:
глупое тельце ее, прохладные длинные уши,
трусливое сердце и голый горячий живот —
тогда — я лягу спать (впервые не с тобой)
и вдруг приснится мне: пустынная дорога,
собачий лай и одинокий вой —
и хитрая большая морда бога,
как сенбернар, склонится надо мной.
Смерть, постоянная тема этой книги, — это отмена «я»; ее хочется остановить — сказать, что «жизнь вообще... не про то, что кто-то умер, а кто-то нет»; в книге Линор Горалик*Признан властями РФ иноагентом. «Частные лица» Воденников признается, что видит момент смерти как застывший, бесконечно длящийся последний момент жизни: «Я очень люблю этот трепет солнца, этот свет. И я знаю, что, умирая, можно попытаться этот трепет и свет вызвать, а стало быть, остановить. Остановить потому, что в следующий момент мозг вспыхнет и погаснет, нейроны умрут, жизнь закончится, но если ты сможешь этот миг остановить, то получается, это и есть вечность, ослепительная вечность, и ее еще надо заслужить». Нам приходилось писать о теме смерти у Горалик: оба поэта разрабатывают эту тему, вступая в диалог-ламентацию с высшими силами («Господи, за все тебе спасибо. / Твари нет смиреннее и я. / Ты гори, догорай, моя купина, / Скоро догорю с тобой и я»); скажем, стихотворения Воденникова «Репейник» или «Сам себе я ад, и рай, и волк, и заяц черный...» можно читать и обсуждать в паре с «Как в норе лежали они с волчком...» Горалик: оба поэта угадывают страшную глубину под фольклором детских сказок и потешек — будто бы тонкого слоя, разделяющего два мира. Стоя на этом слое, улавливая игру солнечного света, и нужно пытаться «быть любимым», быть счастливым.
В разговорах «о смерти, о страхе (о пыли), о комплексе жертвы» Воденников развивает удивительный род стоицизма: трогательно-нарциссический — и в самом деле помогающий выстоять. Возможно, главное качество стихов Воденникова — в том, что с ними трудно идентифицироваться: насыщая их приметами своей биографии и своего габитуса, Воденников всякий раз указывает, что вот это — только он. У читателя здесь нет места, чтобы сказать «я тоже так чувствую». Вспоминая в «Сокращенном интервью» встречу со зрителем — «то ли мальчиком, то ли девочкой, то ли собачкой», — который произнес сакраментальное «Это Вы все про меня написали», Воденников усмехается: «Вообще-то я писал про другое. Но мне было тоже приятно». Зато обращения Воденнникова к аудитории («Я, столько лет к вам всем / протягивавший руки...» — маяковский генезис тут лишь формальный, внешний) способны внушить этой аудитории чувство вины — и тем самым воззвать к ее вниманию. Призраки возмущенных и жадно внимающих зрителей в этой книге возникают постоянно. «Стихи обо всем» призваны пробуждать чувство, свойственное больше театру, чем литературе: видя происходящее на бумажной сцене, зритель должен быть заворожен искусно взметаемым вихрем чужого чувства, за которым подлинный говорящий — лишь угадывается.
Александр Илюшин. Избранные стихотворные произведения. М.: Common Place, 2020
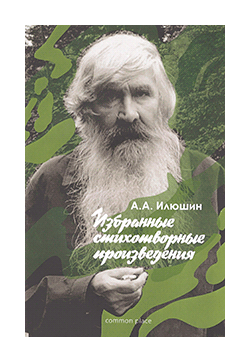 Собрание произведений Александра Илюшина наконец обретает полновесно закрепленное авторство. Дело в том, что филолог, переводчик «Божественной комедии» Илюшин был одним из самых изощренных мистификаторов в русской поэзии. Наиболее известна история со стихами декабриста Гавриила Батенькова, которые Илюшин якобы нашел в архиве. Свою «находку» он издал вместе с подлинными батеньковскими стихами, это вызвало небольшую сенсацию, и псевдо-Батеньков попал в антологии русской поэзии XIX века, а затем и в сетевые собрания. Ученик Илюшина, блестящий стиховед Максим Шапир заподозрил подлог и обосновал его в своей диссертации — признавшись, что окончательно доказать мистификацию филология бессильна. В издании, подготовленном Common Place, эти тексты печатаются уже под именем их настоящего автора.
Собрание произведений Александра Илюшина наконец обретает полновесно закрепленное авторство. Дело в том, что филолог, переводчик «Божественной комедии» Илюшин был одним из самых изощренных мистификаторов в русской поэзии. Наиболее известна история со стихами декабриста Гавриила Батенькова, которые Илюшин якобы нашел в архиве. Свою «находку» он издал вместе с подлинными батеньковскими стихами, это вызвало небольшую сенсацию, и псевдо-Батеньков попал в антологии русской поэзии XIX века, а затем и в сетевые собрания. Ученик Илюшина, блестящий стиховед Максим Шапир заподозрил подлог и обосновал его в своей диссертации — признавшись, что окончательно доказать мистификацию филология бессильна. В издании, подготовленном Common Place, эти тексты печатаются уже под именем их настоящего автора.
Сборник открывают несколько илюшинских поэм; часть их объединена неким сверхсюжетом — потери возлюбленной и попыток ее обретения. Илюшин сам говорил о «некрофильских» и «геронтофильских» мотивах своей поэтики: в первой поэме, «Память его о ней», пожилой филолог сходит с ума после смерти любимой женщины — урну с ее прахом он хранит между книг; в поэме «Дедушка и девушка» описывается любовь названных персонажей («Козочку — козлик, / Петушок — курочку, / А дедик Морозик / Ласкает Снегурочку»). А в поэме «Вновь вижу мою донну», часть которой написана терцинами (отсылки к Данте у Илюшина постоянны) действуют поэт Аполлон Григорьев и не существовавшая в реальности дочь декабриста Бестужева-Марлинского. При этом, хотя Илюшин демонстрирует изощренность стиха (вплоть до прилежнейшей имитации силлабики XVIII века или раешника), при чтении его длинных поэм не покидает ощущение какой-то просвещенной графомании или, скажем мягче, апологии поэтического дилетантизма:
Пусть римский папа мне даст индульгенцию,
С нею отправлюсь… куда? Во Флоренцию:
Puro e disposto a salire к звездам,
Да возблаженствую там.
Дальше визитом своим я обрадую
Наверняка и Болонью и Падую.
Ты опечалилась? Ангел ты мой,
Буду и там я с тобой.
Ну или, в другом ключе:
Буль-буль — нюх-нюх. Хорош спиртяга.
Воспринимается остро.
Но, славный, где твоя бумага?
И где гусиное перо?
Все элементы этих громад, от метрики на формальном уровне до эротики на мотивном, пронизаны некой инерцией — ее сообщает не только желание сослаться на всю мировую классику, но и, конечно, маска «неизвестного автора». По сути, Илюшина, открывавшего некоторые свои поэмы преуведомлениями («Герой поэмы... жестоко поплатился за то, что поил своих подопечных дурной, несвежей кровью... Такова причудливая фантазия нашего поэта, считавшего себя верным продолжателем дантовских традиций...»), можно сопоставить с Приговым, «влипавшим» в разнообразные маски. У Илюшина даже обнаруживается стихотворение, обыгрывающее звучание фамилии «Рейган» («Агрессивный носорог он, / Враг России, миру враг он...») и написанное тогда же, когда и приговский сборник «Образ Рейгана в советской литературе». Но Пригов выбирал нарочито графоманскую технику, возводил faux pas в принцип — и выигрывал. Илюшинская же филигрань, масштабы его работы вызывают уважение — но и недоумение.
Только когда Илюшин ставит себе конкретную стилистическую задачу — подделать Батенькова, — эта инерция пропадает: игра оказывается слишком увлекательной, а сохранившиеся подлинные стихи Батенькова, в том числе тюремные, задают ясный ориентир.
Раскатов громовых свирепость
Земле крушением грозит,
Но П[етро]-Павловская крепость
Все так же над Невой стоит.
Ее не разрушают грозы,
Ее не прожигают слезы,
И песни сложенные мной
Суть те же узники немые,
Жильцы тюрьмы полуживые,
Стенящие во тьме ночной.
Можно представить себе упоение автора, создающего значительного поэта — а может быть, и воображающего, что он действительно воссоздает подлинные его стихи, не дошедшие до нас (по крайней мере, однажды Илюшин так объяснил свою мотивацию; в одно из стихотворений он включает настоящую батеньковскую строчку).
Книга завершается собранием «стихов разных лет», не участвующих ни в каких мистификациях, но тоже несвободных от инерции XIX века — например, в акростихе об антиалкогольной компании Илюшин зашифровывает имя Горбачева. Или вот, например, эпиграмма: «Ликует рогоносцев племя, / Им честь такая дорога: / Твое сиятельное темя / Вечор украсили рога». Какой-то незаемный голос слышен в ранних текстах, посвященных вещам неприятным:
Есть люди: не дурней других,
Но спят с открытыми глазами.
Я недолюбливаю их
За сходство с белыми ночами.
Не спят — подсматривают в щели
Несжатых век, сквозь слизь и муть.
И та же муть, и та же жуть
В болезненных ночах Карелии.
Это резко, это странно — и это, положа руку на сердце, интереснее, чем гигантские поэмы о скопцах или о петровском камергере Монсе.
Артем Верле. Краны над акрополем. М.: всегоничего, 2020
 Эта маленькая книжка псковского поэта вышла в издательском проекте «всегоничего», который курирует Андрей Черкасов: здесь уже появились книги Ивана Ахметьева, Сергея Васильева, Михаила Бараша, Марии Ботевой, Марины Хаген и отличный новый сборник Андрея Сен-Сенькова (который, к сожалению, не поступит в продажу). Верле в принципе свойственно экономичное письмо, но в «Кранах над акрополем» этот принцип кристаллизуется. Возникает соблазн прочесть первый текст сборника как манифест:
Эта маленькая книжка псковского поэта вышла в издательском проекте «всегоничего», который курирует Андрей Черкасов: здесь уже появились книги Ивана Ахметьева, Сергея Васильева, Михаила Бараша, Марии Ботевой, Марины Хаген и отличный новый сборник Андрея Сен-Сенькова (который, к сожалению, не поступит в продажу). Верле в принципе свойственно экономичное письмо, но в «Кранах над акрополем» этот принцип кристаллизуется. Возникает соблазн прочесть первый текст сборника как манифест:
скомкать ворох птиц
и выбросить птиц
в кусты
чистая работа
Именно скомкать, то есть сжать в один ком: несмотря на то, что тексты Верле выглядят разреженно, занимают небольшую площадь даже на маленьких квадратных страницах этой книги, сжатие в них почти физически ощутимо. Все 50 стихотворений в этом сборнике — ассамбляжи из четырех строк. Такое ограничение помещает тексты «Кранов над акрополем» между афористичностью и фрагментарностью, и Верле умело пользуется этим пространством: «когда и облака и облака / станут мрамором // будет и облако // напоминающее по форме обломок». Установка на фрагмент родственна установке на редимейд, found poetry: в искомую форму четверостишия укладывается, например, поэтичная цитата из травелогов Александра фон Гумбольдта или Владимира Арсеньева, а то и отрывок из «Чжуан-цзы». Клочок из Пушкина — «вся комната янтарным блеском» — продолжается клочком из рекламы: «и рассрочка от застройщика». В этих склейках афористичность движется как бы обходными путями, отыскивая точки восприятия, — и тут кстати вспоминается акупунктура; некоторые четверостишия Верле и впрямь напоминают тексты поэта и врача-иглоукалывателя Андрея Сен-Сенькова, только до предела уплотненные:
маленькая боль
чтение под дождем
прозрачные
опухоли букв
Неудивительно, что одни смыслы тут наскакивают на другие: из описания игрушечного хаоса («вечерний кукол дом») выглядывает эротическое «куколдом», в строке «корона сломана слоном» буквальный смысл затеняется шахматным. В целом форма верлибрического четверостишия оказывается на удивление многообразной — в том числе и интонационно. Верле работает то с меланхолическим пейзажем, напоминающим о японских малых формах, то с «инфинитивной поэтикой», которая позволяет построить планы на смерть и посмертие: «умереть в удаленной деревне // откуда в мешке / повезут на уазике // хоронить по-людски». Благодаря этим экспериментам, проводимым на небольшой площадке, интонация вдруг обретает собственное пространство — вернее, пространственность, протяженность. Очень интересно.