Синяки станут зеленые, потом желтые
Поэтические новинки мая
Стихи Януша Шубера в переводах Анастасии Векшиной и Никиты Кузнецова, собрание поэм Марии Мартысевич, долгожданный сборник Александры Цибули и книга текстов Дмитрия Озерского. Лев Оборин — о самых интересных поэтических новинках мая.
Януш Шубер. Круглый глаз погоды и другие стихи. М.: Балтрус, 2020. Перевод с польского Анастасии Векшиной и Никиты Кузнецова
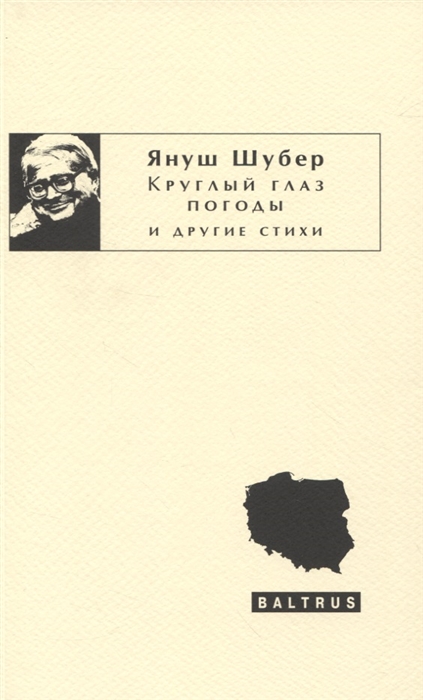 Польский поэт Януш Шубер всю жизнь прожил в небольшом городе Санок на юго-востоке страны. С юности прикованный к инвалидной коляске, он выпустил дебютный сборник (а вернее, пять небольших сборников подряд) только в конце XX века, когда ему было уже под пятьдесят, — и удостоился искренних похвал Херберта, Милоша, Шимборской. В это издание включены два текста литературоведа Анджея Суликовского, объясняющего, как случилось, что в 1990–2000-е Шубер оказался одним из ведущих поэтов Польши: в нем увидели автора, сохраняющего иную, более «медленную», провинциальную память, которая запечатлевает микрокосм Санока и Бещадских гор — будто бы показывая замедленную съемку из прошлого. «Изучая семейные архивы, автор словно становится свидетелем минувших эпох и поколений, населявших многонациональную Галицию. Он размышляет над старыми снимками, но иногда обращается и к современным фотографиям». Вспоминая прошлое, он хочет отыскать «дно того дня, / Когда пели петухи к перемене погоды» (пер. Никиты Кузнецова).
Польский поэт Януш Шубер всю жизнь прожил в небольшом городе Санок на юго-востоке страны. С юности прикованный к инвалидной коляске, он выпустил дебютный сборник (а вернее, пять небольших сборников подряд) только в конце XX века, когда ему было уже под пятьдесят, — и удостоился искренних похвал Херберта, Милоша, Шимборской. В это издание включены два текста литературоведа Анджея Суликовского, объясняющего, как случилось, что в 1990–2000-е Шубер оказался одним из ведущих поэтов Польши: в нем увидели автора, сохраняющего иную, более «медленную», провинциальную память, которая запечатлевает микрокосм Санока и Бещадских гор — будто бы показывая замедленную съемку из прошлого. «Изучая семейные архивы, автор словно становится свидетелем минувших эпох и поколений, населявших многонациональную Галицию. Он размышляет над старыми снимками, но иногда обращается и к современным фотографиям». Вспоминая прошлое, он хочет отыскать «дно того дня, / Когда пели петухи к перемене погоды» (пер. Никиты Кузнецова).
Работа Шубера в этой трактовке приобретает проектность, даже если проект не предполагался изначально (можно сопоставить его книги с «Семейным архивом» Бориса Херсонского). Это свойство сохранено и в композиции переводного сборника. В первых же его стихотворениях мы встречаем галицких князей и их далеких потомков: «Дочери и сестры в голове смешались. / Кто из них сегодня шлет мне эсэмэски?» (пер. Анастасии Векшиной); читаем о «доме старых Шуберов» (деда и бабки поэта), в котором разворачивалась жизнь и строились планы на будущее — оказавшееся совсем иным:
Глядя в их празднично поблекшие лица,
Я мог бы вкратце им рассказать
Продолжение их трудных жизней, но,
Честно говоря, я немного смущен.
Зачем мне им портить момент, нарушать
Какой ни есть порядок, заставлять стучать
Неподвижные сердца
(пер. Никиты Кузнецова)
Далее книга движется по волнам уже собственных воспоминаний поэта. «Я помню вечера, когда из экономии / У нас во всем районе отключали электричество, / И в доме зажигали керосиновую лампу...» — память о лампе должна «запустить» стихотворение, привести на ум первую строку, но она так и не приходит: содержанием стихотворения остается сама связь воспоминания с попыткой достойно о нем рассказать. Но и здесь по-прежнему важен мотив фотоснимка, изображения как ненадежного инструмента памяти. Оно не в силах схватить что-то самое важное, перебросить мост к подлинному общению с прошлым:
Моя бабушка Марья,
Когда ей было девяносто,
С дымящимся «дукатом» в мундштуке
Любила постоять перед портретом
Своей умершей рано матери, красивой,
Скорее девушки, чем дамы...
<...>
Все спрашивала, интересно, как
Мы там узнаем и поймем друг друга,
Если по возрасту, наружности и нраву
Она годится мне во внучки?
(пер. Никиты Кузнецова)
Схожую эмоцию вызывает фотография, на которой запечатлены друзья поэта — все они, кроме него самого, умерли:
На пороге новое тысячелетие.
Когда оно наступит, те трое один за другим,
застигнутые врасплох на бегу, просто уйдут,
а мне над недопитым чаем
будет совсем не до смеха.
(пер. Анастасии Векшиной)
Поэзия Шубера кажется меланхолией в чистом виде: отвлекаясь от прошлого семьи или родных мест, он все равно выбирает соответствующие этому темпераменту — грустному согласию с исчезновением — сюжеты, мифы и образы: Одиссей, считающий, что «лучше умереть обычной смертью / чем оживать каждый раз по воле чужих мне губ», или туман на дороге («Нас поглотило густо-молочное ничто»). Меланхолия была прекрасно знакома и Милошу, и Херберту — но не была доминантой их работы. Шубер ее невольно закрепляет за собой, как ноту — кажется, переводчикам вполне удалось это передать.
Мария Мартысевич. Сарматия и другие поэмы. М.; Екб.: Кабинетный ученый, 2021. Перевод с белорусского Г. Каневского, Б. Херсонского, С. Шабуцкого, В. Шепелева
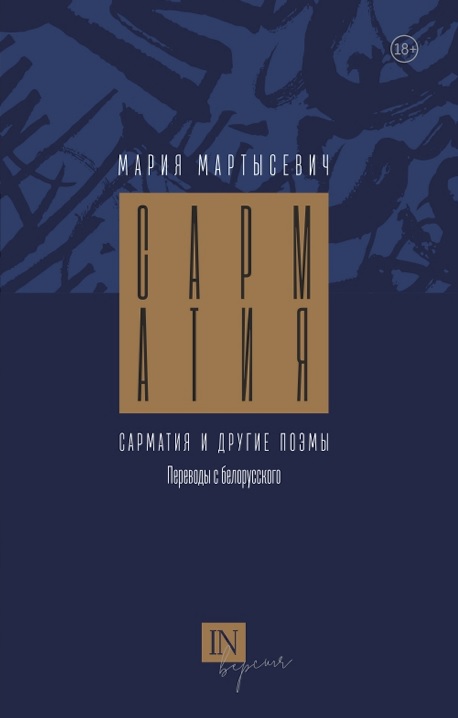 За последний год, трагический для Беларуси, в России вышло несколько важных книг белорусских поэтов — о некоторых мы надеемся написать в будущих выпусках (упомянем монументальную книгу Дмитрия Строцева «Монах Вера» и антологию «Вот они, а вот мы»). Собрание поэм Марии Мартысевич — одно из таких важных изданий. В книгу входят четыре поэмы, каждая напечатана сначала в оригинале, затем в переводе: «Barbara Radzivil’s LiveJournal» (перевод Бориса Херсонского), «Сестра Зоя и конец света» (перевод Сергея Шабуцкого), «Дипмиссия» (перевод Виктора Шепелева) и, собственно, «Сарматия» (перевод Геннадия Каневского). Сразу хочется сказать, что все переводы хороши, работа Шабуцкого кажется прямо-таки блестящей. Книгу завершает послесловие Андрея Хадановича, дающего поэмам короткие и точные характеристики.
За последний год, трагический для Беларуси, в России вышло несколько важных книг белорусских поэтов — о некоторых мы надеемся написать в будущих выпусках (упомянем монументальную книгу Дмитрия Строцева «Монах Вера» и антологию «Вот они, а вот мы»). Собрание поэм Марии Мартысевич — одно из таких важных изданий. В книгу входят четыре поэмы, каждая напечатана сначала в оригинале, затем в переводе: «Barbara Radzivil’s LiveJournal» (перевод Бориса Херсонского), «Сестра Зоя и конец света» (перевод Сергея Шабуцкого), «Дипмиссия» (перевод Виктора Шепелева) и, собственно, «Сарматия» (перевод Геннадия Каневского). Сразу хочется сказать, что все переводы хороши, работа Шабуцкого кажется прямо-таки блестящей. Книгу завершает послесловие Андрея Хадановича, дающего поэмам короткие и точные характеристики.
Мартысевич стала известной в 2000-е — и первая поэма, опубликованная в 2005 году, навевает мысли о том времени, когда было модно играть в ЖЖ исторических фигур (Мартысевич завела специальный блог в ЖЖ, где опубликовала поэму). «Barbara Radzivil’s LiveJournal» состоит из нескольких поэтических эпизодов биографии легендарной королевы польской и великой княгини литовской, тайно вышедшей замуж за великого князя Сигизмунда Августа. На фоне трех остальных поэм эта, пожалуй, меркнет и выглядит откровенно старомодной — не потому, что под текстами стоят даты из 1540-х и 1550-х. Впоследствии — как легко убедиться по «Дипмиссии» и «Сарматии» — Мартысевич начнет гораздо убедительнее работать и с монтажностью, и со сквозным нарративом. Но с ЖЖ Барбары Радзивилл в книге начинается общая тема: Мартысевич пишет о женщинах, которые противопоставлены миру. Это может быть сестра Зоя — практически народная святая, которая носит в себе Иону. «По слухам, сестра Зоя — / уроженка воинской части. / Дневальный нашел ее в тумбочке, / спеленатую портянкой. <...> / Тихоней росла сирота, / как всякая самка кита». Житие несчастной и блаженной Зои в 12 главах (характерное число для квазирелигиозных поэм, от Блока до Томаша Ружицкого) завершается утверждением: именно такая святая может спасти если не свет от конца, то вас от конца света:
Ну и последнее:
если вы ищете то,
что возвысило нашу цивилизацию
над плинтусом кайнозоя,
вам нужна сестра Зоя.
По слухам, она и теперь
странствует
по
планете,
а за нею бегут
котик белый
и песик черный,
и если вы к ней подойдете,
говоря:
«У тебя красивые дети», —
то Апокалипсис будет
уже нипочем вам.
В свою очередь, «Сарматия» (2018) — это череда писем героини по имени Алоиза о нравах аллегорических сарматов, к которым заносит ее судьба. Алоиза, по словам Хадановича, «„зависает“... между нашим неизвестным прошлым и неопределенным настоящим, между легендарной Сарматией — и сегодняшней РБ, не менее загадочной для всех, в том числе — для самих белорусов». Если в «Сестре Зое» чувствуется сходство с поэтикой Федора Сваровского, то русский читатель «Сарматии» может вспомнить Бродского — не столько «Письма римскому другу», сколько «Пятую годовщину». Начинаясь в схожем ключе («Снег тут, сестра, имеет двойное дно. / Снегу тут очень много нужно зимою, / потому что под снег они прячут свое говно, / сдобренное холерой и бубонной чумою. / Лишь озера и реки покроются коркой льда, / тут и мор, понятно любому, утихнет сразу, / а они повсюду радуются тогда, / что совместными усильями прогнали заразу»), к концу поэма явственно нежнеет:
Чередуются паводок, сушь, духота и прель.
Набухая, словно пшеница, временем и погодой,
я поспела: в одном снопе я с ними теперь —
слуцким поясом связана вместе с этим народом.
Тут, в скирде, удобней колосьям быть заодно:
одиноким воинам первым хребты ломает.
Нестерпимая жажда жить как заведено
спорыньею в них прорезается и сверкает.
Знаешь, эта трясина затягивает, на беду —
их всегдашнее «с нами Бог» и «мы — сила»,
просто им это нужно — не замечать страду,
что цепами их вечно на каждом гумне месила.
Эта нежность духовного соединения с Сарматией трагична, потому что в финале героиню с ее проникновенной этнографией ждет (может быть, слишком предсказуемо) костер — как чужую, «виновную в том, / что ваш каждый шаг для меня необычен». Схожим ощущением проникнута и «Дипмиссия» — синопсис сериала о консульстве вымышленной Полабской республики, сотрудники которого разговаривают по телефону с теми, кто хочет в эту республику выехать. Найденное Хадановичем определение «зависание» применимо и здесь: герои зависают между Беларусью и Полабией, сочувствием и канцелярским хамством, стихами и прозой — в конце концов, жизнью и смертью: «Я к тебе летом хотела заехать, мне летом могут дать визу, по молодежной образовательной программе, Кто же знал, что все так повернется? — А ты на могилку заедь, Лиза. Могилка у меня уютная». Хаданович напоминает, что шенгенская бюрократия «часто становится для многих белорусов вопросом жизни и смерти» — и, конечно, читая поэму сегодня, трудно об этом не думать. Но даже в отрыве от самого современного контекста читатель «Дипмиссии» становится кем-то вроде неловкого наблюдателя за игрой «Papers, Please» — и осознает тотальное одиночество всех игровых фигур.
Александра Цибуля. Колесо обозрения. CПб.: Jaromír Hladík press, 2021
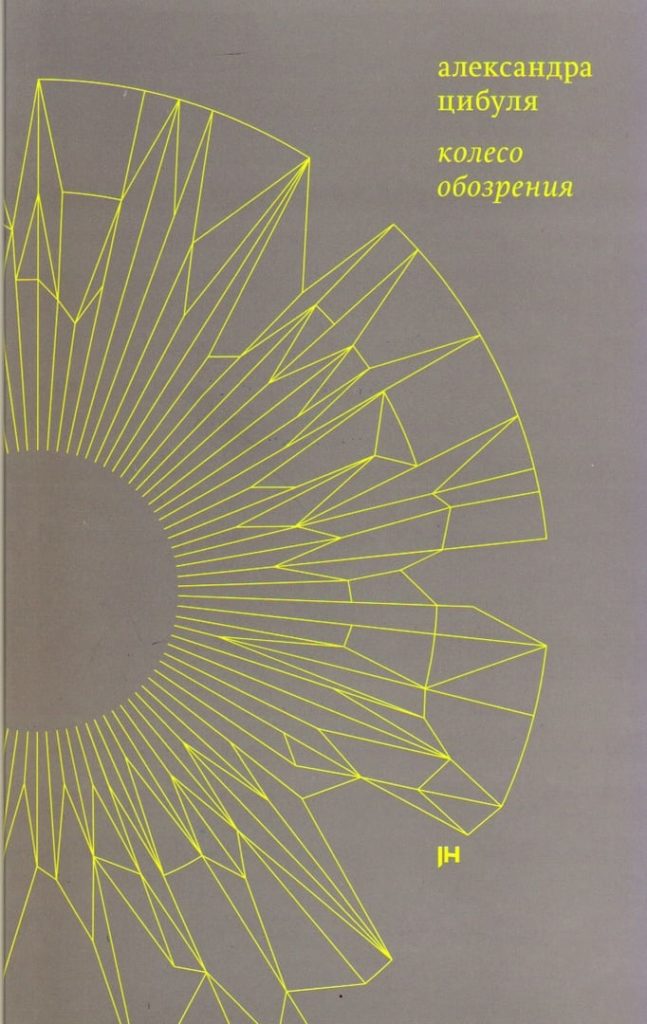 Критики, писавшие об Александре Цибуле, подчеркивали принципиальную ее установку на визуальность и созерцательность: так, Лада Чижова говорила о том, что лирический голос поэтессы — «это сам процесс смотрения», Кирилл Корчагин писал, что Цибуля «исследует, как могут существовать образы в лишенном людей мире», а Екатерина Перченкова отмечала, что главной характеристикой поэзии Цибули можно назвать бесстрастность. В «Колесе обозрения» — первом сборнике поэтессы за семь лет — интонация, на первый взгляд, тоже бесстрастна, даже анемична: «Дал родовое имя, чтобы применить как функцию. / Башни вырезаны из светящегося вещества / и наложены на трагический фон. / Край облака обратился в ледник: / но не шли к леднику, / находясь в обстоятельствах сломанной речи / и опоздания». Дальше, однако, сказано: «Пронзительно больно возник просвет, / как жаберная щель китовой акулы».
Критики, писавшие об Александре Цибуле, подчеркивали принципиальную ее установку на визуальность и созерцательность: так, Лада Чижова говорила о том, что лирический голос поэтессы — «это сам процесс смотрения», Кирилл Корчагин писал, что Цибуля «исследует, как могут существовать образы в лишенном людей мире», а Екатерина Перченкова отмечала, что главной характеристикой поэзии Цибули можно назвать бесстрастность. В «Колесе обозрения» — первом сборнике поэтессы за семь лет — интонация, на первый взгляд, тоже бесстрастна, даже анемична: «Дал родовое имя, чтобы применить как функцию. / Башни вырезаны из светящегося вещества / и наложены на трагический фон. / Край облака обратился в ледник: / но не шли к леднику, / находясь в обстоятельствах сломанной речи / и опоздания». Дальше, однако, сказано: «Пронзительно больно возник просвет, / как жаберная щель китовой акулы».
Боль — один из лейтмотивов «Колеса обозрения» («N. ненавидит тело себя, которое / плачет или болит», «Возможно, кто-то хочет, чтобы было больно, и я действительно / испытываю боль»). С другой стороны, еще один важный мотив — заживление, успокоение. Единственное в книге стихотворение, открыто опирающееся на рифму, называется «Всё заживает»: «заживают морские глубины / заживают пытливые ламантины // заживает битая арматура / заживает высокая температура» — в общем-то, это заклинание в духе «у кошки боли, у собаки боли», и обращено оно как раз к людям, другим людям: «заживают все друзья / в маленьких кружочках». Кажется, об этих же друзьях — неважно здесь, насколько реальных, — первое стихотворение книги:
Голова поболит и перестанет.
Ребята разойдутся по домам.
Синяки станут зеленые, потом желтые.
Потом из этой туманности
выйдут новые люди:
менее уязвимые.
Вообще неубиваемые.
Поэзия Александры Цибули интересна тем, что она делает как раз вещи одновременно хрупкие и «неубиваемые», играя с открытыми картами («Я больше не думаю, что поэзия должна быть непрозрачной, / она должна быть строгой и доверительной»). В мире этой книги, конечно, есть люди — вопрос в том, как они есть. Именно люди должны кататься на колесе обозрения, но само это колесо — традиционный призрачный, хонтологический образ, и не случайно в стихотворении Цибули с его высоты видно как раз не людей, а «тихих животных». Кого видно, решает избирательность оптики: тихое и напряженное внимание здесь достается «тому, кого ты любишь», говорящим деталям, выплывающим из тумана, — и, в конце концов, дорогим умершим. Ближе к последним страницам книги в тумане начинает брезжить трагически-отрешенный сюжет:
Когда муха садится на лицо любимого существа,
которое уже не способно отогнать ее, и нахально
ходит по лицу бесстыжими лапками, а ты,
ты, обездвижен, ты боишься нарушить течение церемонии,
в которой и так не слишком много величия,
ты не можешь спасти ее даже теперь, после всего; скоро
ты придерживаешь в машине и гладишь рукой гроб,
недоумевая, как этот предмет мог когда-либо внушать
тебе страх, ты понимаешь, что это и есть
самые последние прикосновения, которые с тобой останутся.
Онемение и боль, заживление и память («незаживающая рана», как в мотивно родственном стихотворении сказал «чужим» словом Владимир Гандельсман) в этой книге связаны одним туманом — который, возможно, состоит из рассеявшихся астральных тел тех, кого с нами уже нет. Об этом в финале книги, опять-таки, сказано открытым текстом:
Просто ночь, с белыми стволами деревьев,
которая нас склоняет к исчезновению,
и самое близкое существо
переходит в ряды невидимых
«через прозрачность», как в видеомонтаже.
— Милый призрак, что в этих случаях делают?
— Измождают тело, отупляют ум.
В начале «Колеса обозрения» люди «выходили из туманности», в конце происходит обратное. Бесстрастность в книге Цибули, таким образом, мнимая. Скорее стоит думать о деликатности разговора с призраками (с призрачной атмосферой). О балансировании между этой деликатностью и собственной болью говорящей.
Дмитрий Озерский. Суп. СПб.: Имидж Принт, 2021
 В эту книгу Дмитрия Озерского вошли тексты разных лет, исполняемые коллективом «ОРК и КО» (в него входят участники «АукцЫона» и еще двое музыкантов — Николай Бичан и Олег Шарр). Как сказано в предуведомлении «дорогим друзьям, добрым покупателям», сборник «Суп» — прежде всего «некоторая театральная программка, предназначение которой: во-первых — быть скромной помощницей в деле повышения разборчивости далеко не всегда внятно произносимых в трудных концертных условиях текстов, и во-вторых — давать замечательную и чудесную возможность произносить эти тексты самостоятельно, вслух, в спокойных домашних условиях, для себя, для своих друзей, родственников, знакомых, а при желании — и для совершенно незнакомых Вам посторонних людей». На этом пародийный канцелярит заканчивается — и начинается совсем другая музыка.
В эту книгу Дмитрия Озерского вошли тексты разных лет, исполняемые коллективом «ОРК и КО» (в него входят участники «АукцЫона» и еще двое музыкантов — Николай Бичан и Олег Шарр). Как сказано в предуведомлении «дорогим друзьям, добрым покупателям», сборник «Суп» — прежде всего «некоторая театральная программка, предназначение которой: во-первых — быть скромной помощницей в деле повышения разборчивости далеко не всегда внятно произносимых в трудных концертных условиях текстов, и во-вторых — давать замечательную и чудесную возможность произносить эти тексты самостоятельно, вслух, в спокойных домашних условиях, для себя, для своих друзей, родственников, знакомых, а при желании — и для совершенно незнакомых Вам посторонних людей». На этом пародийный канцелярит заканчивается — и начинается совсем другая музыка.
Два неизбежных эффекта при чтении книги Дмитрия Озерского — сопоставление его текстов с обэриутской традицией, из которой они с отчетливостью вырастают, и сам собой встраивающийся в чтение музыкальный фон: Озерский — автор текстов «АукцЫона», и его стихи в голове начинают звучать голосом Леонида Федорова. Некоторые из этих стихотворений впрямь относятся к федоровским жемчужинам — например, «Пропал» или совершенно выдающиеся «Мотыльки», открывающие одноименный альбом Федорова и Владимира Волкова (2014):
Был год. Мы были мотыльки.
Некровожадны и легки
Плели из времени-реки
напевы и мотивы.
В то время времени река
Была не толще ручейка,
И доносилось с маяка:
«Мы скоро встретимся, пока,
На Луне,
В той стране, где все мы живы...»
Оба эффекта нельзя назвать недостатками. Напротив, работа Озерского на музыкальном, на синтаксическом уровне подчеркивает классичность обэриутского/постобэриутского письма. Какой-нибудь оборот — «Пожарников нестройный хор», или «В нем не горит моя звезда, / Не плещет лебедь вдоль пруда, / И разноцветные огни / У дна не ведают возни» — и повеет корневой, пушкинской и лермонтовской мелодикой. Преломленная Хармсом, Введенским, в меньшей степени Заболоцким, эта мелодика полетела под другим углом, связывая сугубо частные вещи, обломки и обрывки, со все тем же романтическим ощущением великого противостояния: познающего человека — непонятной, ноуменальной природе. Озерский это прекрасно чувствует.
Луна упала на песок
И раскололась, и кусок,
Подобный трапу корабля,
Лежит на солнце, шутки для.
И я подумал о Луне:
Как много странного во мне!
Вот я один, стою в тоске,
С Луной, лежащей на песке,
И в то же время надо мной
Луна и Солнце! Шар земной!
Разумеется, и стихи Озерского, и его ритмическая проза работают без музыки — «самостоятельно, вслух». Тем не менее «Суп» не хочет расставаться с игровым ощущением Gesamtkunstwerk’а. Книгу невозможно представить без иллюстраций Артура Молева, сочетающих коллаж с графикой. В графическом «супе» здесь плавают обрывки документов, утративших значение: талонов на водку и чай, больничных выписок, театральных билетов. Статус привлекательной «театральной программки» — списка номеров, в котором есть место репризам и выходам на бис, — этому набору соответствует.