Синдром смещенного горя у поколения миллениалов
О романе Алексея Поляринова «Кадавры»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Алексей Поляринов. Кадавры. М.: Inspiria, 2024
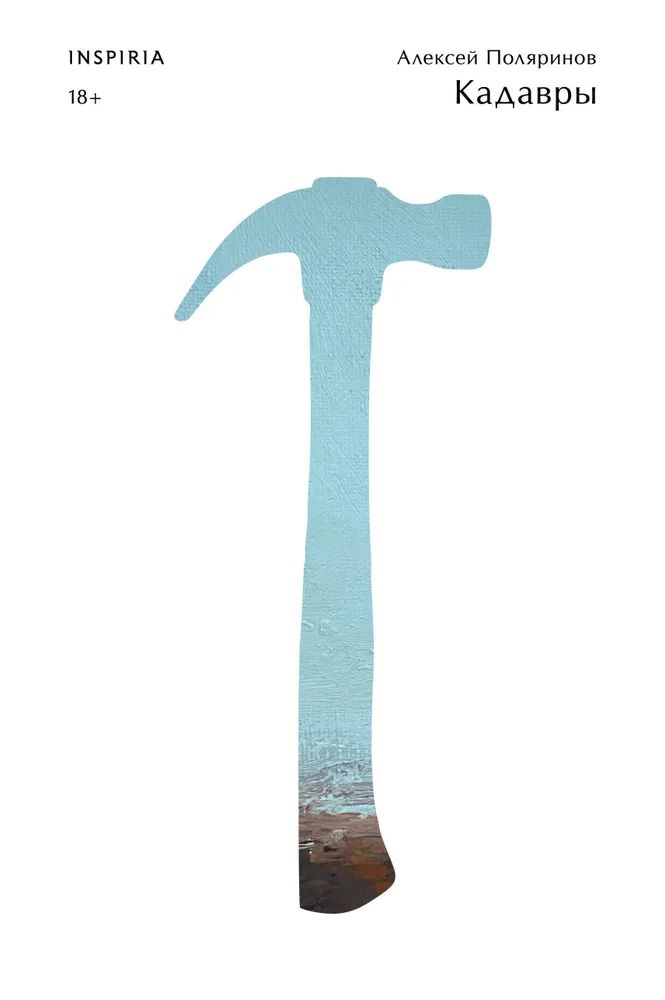 В современной русской литературе порой хочется выделить (под)жанр, который оформился примерно в конце 2010-х годов. Его можно назвать «антиутопией слегка сгущенных красок». Такие антиутопии рисуют картины альтернативной России либо недалекого российского будущего, в которых общество на первый взгляд не то чтобы сильно отличается от реального. Просто какие-то актуальные проблемы нашей страны решены в них мрачнейшим из известных путей. Или даже не решены, а доведены до критического предела. Так, в «Аптечке номер 4» Булата Ханова в России закрыты границы и возвращена смертная казнь, все остальное в целом соответствует настоящему моменту. В «Антителах» Кирилла Куталова узнаваемо описанная борьба с вирусом окончательно затягивает страну в киберпанк, а затем оборачивается хаосом. В «Репродукторе» Дмитрия Захарова главным социально-политическим допущением становится опять же изоляция, пусть к ней и прибавляются фантастические образы людей-медведей. Подобные мрачноватые романы можно любить или не любить, но их продолжают писать. С одной стороны, они служат аккумуляторами авторских страхов, а вчитываться в чужие страхи иногда бывает утомительно, но с другой — это способ для художника метафорическим языком рассказать о тех вещах, которые он считает ненормальными. «Кадавры» Алексея Поляринова поначалу кажутся еще одним образчиком антиутопии слегка сгущенных красок. Но только поначалу.
В современной русской литературе порой хочется выделить (под)жанр, который оформился примерно в конце 2010-х годов. Его можно назвать «антиутопией слегка сгущенных красок». Такие антиутопии рисуют картины альтернативной России либо недалекого российского будущего, в которых общество на первый взгляд не то чтобы сильно отличается от реального. Просто какие-то актуальные проблемы нашей страны решены в них мрачнейшим из известных путей. Или даже не решены, а доведены до критического предела. Так, в «Аптечке номер 4» Булата Ханова в России закрыты границы и возвращена смертная казнь, все остальное в целом соответствует настоящему моменту. В «Антителах» Кирилла Куталова узнаваемо описанная борьба с вирусом окончательно затягивает страну в киберпанк, а затем оборачивается хаосом. В «Репродукторе» Дмитрия Захарова главным социально-политическим допущением становится опять же изоляция, пусть к ней и прибавляются фантастические образы людей-медведей. Подобные мрачноватые романы можно любить или не любить, но их продолжают писать. С одной стороны, они служат аккумуляторами авторских страхов, а вчитываться в чужие страхи иногда бывает утомительно, но с другой — это способ для художника метафорическим языком рассказать о тех вещах, которые он считает ненормальными. «Кадавры» Алексея Поляринова поначалу кажутся еще одним образчиком антиутопии слегка сгущенных красок. Но только поначалу.
Роман описывает альтернативную Россию, в которой в 2000-х годах появились так называемые мортальные аномалии, в простонародье — вынесенные в заглавие книги кадавры. Это причудливые мертвые дети, которые стоят истуканами в разных, чаще всего безлюдных местах. Их невозможно сдвинуть с места, а если попытаться взорвать или изрубить, то и тогда кадавр не исчезнет. Изувеченный, он лишь выбросит в атмосферу огромное количество соли. Соляные выбросы существенно вредят экологии, поэтому государство запрещает любой самовольный вандализм по отношению к аномалиям в виде мертвых детей, фактически предлагает их попросту не замечать. В результате аномалии становятся привычной частью ландшафта, культуры, быта. Школьники придумывают о них страшилки, а народные лекари разносят слухи о целебной силе кадавровой соли. Доподлинно выяснить, имеют ли мертвецы-истуканы какое-то отношение к реально погибшим детям, не удается. Временами кто-то принимает за своего покойного ребенка кадавра, который по внешним признакам на реально умершего объективно не похож. Этот феномен специалисты называют синдромом смещенного горя. Правда, государство вскоре запрещает независимые исследования мортальных аномалий и их влияния на людей. Главная героиня романа Даша — одна из исследовательниц — вынуждена эмигрировать. Через несколько лет она возвращается в родные южные края с разрешением из Китая на сбор данных о кадаврах, потому что, согласно альтернативной истории, изложенной в романе, некоторые области в районе Адыгеи, Ростова-на-Дону и Пятигорска к 2027 году перешли под контроль объединенной российско-китайской администрации ОРКА (привет ОНАН из «Бесконечной шутки» Уоллеса). Даше необходимо разобраться, почему в южных областях значительно усилились соляные выбросы, а помогает ей в этом ее родной брат Матвей. В прошлом авантюрист и манипулятор, теперь Матвей, отсидевший за мошенничество, производит впечатление обычного потерянного мужика.
Достаточно и такого краткого пересказа сюжетной завязки, чтобы понять, что фантастические допущения в этой как бы антиутопии странноваты. Допустим, никто не пробует аккуратно вырыть большой кусок земли вокруг кадавров и запустить их вместе с землей куда-нибудь в космос. Возможно у кадавров есть ведущие к центру планеты корни, о которых роман умалчивает, вдобавок правительству обычно действительно проще взорвать или проигнорировать проблему, чем думать, как решить ее более тонкими методами. Но китайская администрация на Кубани — это звучит примерно так же, как иранская администрация на Камчатке. Можно предположить, конечно, что Дальний Восток и Алтай в этом мире китайцам давным-давно проданы и вот дошла очередь до юго-запада, но, опять же, жанр антиутопии, вообще фантастики, где важно социально-политическое устройство воображаемого мира, требует уточнения таких нюансов.
В «Кадаврах» немало подобных условностей, а в паре глав есть и мелкие нестыковки. Например, когда Матвей подростком пытается издавать школьный журнал вместе с Дашей, героиня сначала представлена как «одиннадцатилетняя наивная дурочка», но уже через пару абзацев в том же эпизоде читаем:
«Даше было девять, и она в целом понимала, что это за части тела, но никогда еще не видела их с такого ракурса. „Это — цветы любви“, — сказал ей Матвей, многозначительно подняв палец».
Парадоксально, но при всей своей абсурдности, а иногда и небрежности, «Кадавры» — пока что самая увлекательная и эмоционально эффектная художественная книга Алексея Поляринова. И дело не в том, что ставить в центр истории образы мертвых детей — манипулятивный прием. Повествование просто не успевает привить читателю сочувствие ни к одному умершему ребенку, а скорее всего, и не рассчитано на это.
В подкасте «Партнерский материал» Поляринов рассказывает, что хотел создать текст в духе южной готики, но с российским колоритом. Характерный для готики мистический символизм в романе и правда присутствует: так, вся линия Даши начинается с песни и песней же заканчивается, а общая атмосфера заброшенной полусельской местности вполне отдает определенными фолкнеровскими мотивами. Однако, если говорить об американской традиции повествования, в «Кадаврах» ощутимо больше сказывается влияние совсем не южного и к тому же не литератора, а кинорежиссера Дэвида Линча. Во-первых, образ ребенка, внушающего ужас и желание о нем забыть, тема вины за погибших детей — все это вызывает стойкую ассоциацию с «Головой-ластиком». Во-вторых, бросается в глаза по-линчевски событийно плотный, почти клиповый саспенс, где подозрительные, нередко юродивые персонажи внезапно появляются и так же внезапно бесследно исчезают, а опасность подчас настолько алогична, что даже хваленые соленые арбузы как будто вот-вот взорвутся. Показателен в этом смысле один из жутчайших эпизодов книги: Даша сквозь сон слышит за окном на улице подозрительные шаги, встает проверить, кто там, и никого не обнаруживает:
«Даша поднялась с коврика, осторожно подошла к окну, отдернула штору и выглянула, посмотрела вниз. Фонари на улице не горели, и разобрать что-то было непросто, но на секунду ей показалось, будто на тротуаре действительно кто-то есть, стоит, вскинув голову, смотрит прямо на ее окно — только лица не разобрать, лица как будто и нет. Из-за угла появилась машина, желтый свет ее фар прокатился по стене, и стало ясно — тротуар пуст, никого нет».
Но затем она идет в ванную и находит у себя на теле ссадины, словно ее избили.
Еще одна черта, свойственная фильмам Линча, кроется в сочетании изломанной временной линии с отсутствием разгадок и ответов. За слишком открытый финал и путаный сюжет читатели на Лайвлибе и Букмейте предъявили роману немало претензий, отчего, судя по количеству оставленных там отзывов, «Кадавров» можно считать главной спорной книгой весны. Слишком открытый финал не годится для жанра антиутопии, но «Кадавры» на самом деле и не относятся к антиутопиям, конфликт героев с обществом и государством тут проходит фоном. Перед нами скорее религиозно-мистический роман в оболочке триллера.
Упомянутый синдром смещенного горя — состояние, в котором человек принимает кадавра за знакомого ему умершего ребенка, будь то родная дочь или приятель детства. Часто оно связано с серьезным чувством вины. Мертвые дети ведь и правда, за редкими исключениями, олицетворяют вину, причем как личную, так и коллективную. Их смерть означает, что взрослые не уберегли, не предусмотрели, не привлекли внимание, бездействовали, не эвакуировали, не нашли вовремя лекарство, не отправили достаточно денег из бюджета благотворительным организациям, в конце концов. Да и вездесущая в романе соль отсылает не только к превращенной в соляной столп непослушной жене из ветхозаветной притчи, но и буквально к слезам, горю, которое до конца выплакать невозможно, если позволить себе обернуться в прошлое. Словом, кадавры — напоминание и о личных грехах, и в целом об изгнании человечества из рая в мир, где дети гибнут, если взрослые не успели позаботиться о них в поте лица своего.
Матвей и Даша сперва выступают в роли бесстрастных детективов, но чем дальше, тем отчетливей раскрываются их собственные грехи. И получается, что главная тема романа — художественное исследование того, как разные люди по-разному работают с сильным и непреходящим чувством вины. Кто-то будет носить кадавру зимой теплые шарфики и читать сказки на ночь, фактически таким образом замаливая свой грех. Кто-то постарается кадавра непременно уничтожить, и плевать, что соляные выбросы могут привести к мировой катастрофе, к апокалипсису.
В романе упомянут некий святой, вокруг которого сложился подпольный религиозный культ. Приверженцы культа верят, что если забить кадавру в голову специальный гвоздь, то горе и вина отступят. Некоторые впадают в зависимость от забивания гвоздей в кадавров. Кому-то хватает одного раза, но тогда в душе возникает пустота — атрофия той любви, из реального или мнимого, нечаянного или осознанного предательства которой чувство вины, как правило, и вырастает. Святого зовут Самаэль, и, хотя в романе он представлен как библейский кузнец, в истории авраамического богословия его имя ассоциируется с талмудическим начальником демонов, ангелом смерти. Неудивительно, что никакого настоящего облегчения гвозди Самаэля не приносят.
Если в книге существует свой Сатана, насаждающий сатанинскую практику забивать грехи гвоздями, по сути искореняя память о них, то ведь должен быть и Бог? Однако Бога здесь как будто нет. И сами кадавры похожи не столько на творение какого-то авраамического бога, сколько на лавкрафтианские хтонические сущности, внеземных богов из условного Тартара, которые в общем-то не очень понимают и не хотят понимать людские переживания.
«Или вот еще одно дитятко было, говорят, под Белгородом, у него рот был открыт, ему в пасть заглянули, а там зубы все одинаковые, двадцать восемь передних, ни одного резца или там мудрости. Я думаю, это все связано. Оно, — то, которое их создает, — живых людей никогда не видало. Оно не знает, зачем нужны глаза и зубы, Оно воспринимает нас просто как форму, выкройку, понимаешь? Отсюда и ошибки эти нелепые. Оно когда кадавров лепит, косячит с одеждой или зубами, потому что мы для Него — не люди, а что-то другое, конструктор, с которым можно делать что хочешь. Оно и делает».
Впрочем, напрямую на лавкрафтианскую природу кадавров намекает лишь вышеприведенное свидетельство портнихи. Возможна и более оптимистичная трактовка: божественное в силу сакральной природы невыразимо, оттого оставлено за кадром. К нему и ведут якобы брошенные автором линии, а персонажи бесследно исчезают в своего рода башне из балабановского «Я тоже хочу», способной забрать кого-то раскаявшегося, минуя смертные муки, прямиком на небеса обетованные.
В «Кадаврах» любопытна еще одна тема. Даша и Матвей нередко напоминают стереотипных «невзрослеющих миллениалов». Особенно это очевидно в сцене с покупкой удобрений и поисками художника. Порой кажется, будто герои едва-едва начали смиряться с тем, что жизнь далека от мечты, непредсказуема и не позволяет рассчитывать на какие-то подарки судьбы, кроме пресловутых соленых арбузов, — убедительный портрет если не потерянного, то потерявшегося поколения Питера Пэна. В романе оно не успело, не захотело вырасти и было затянуто водоворотом истории либо в апатию, возникающую из-за бесконечной адаптации к этому водовороту, либо в совершение того или иного подвига, по факту гораздо чаще приводящего к безвестному исчезновению, чем к славе. В результате у Алексея Поляринова получилась грустная и местами болезненно неопрятная, но куда более сильная и глубокая, чем аккуратный «Риф» или дебютный «Центр тяжести», книга.