Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Йозеф Фогль. Расчет и страсть. Поэтика экономического человека. М.: Издательство Института Гайдара; СПб: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2022. Перевод с немецкого Кирилла Лощевского, под научной редакцией Александра Белобратова. Содержание. Фрагмент
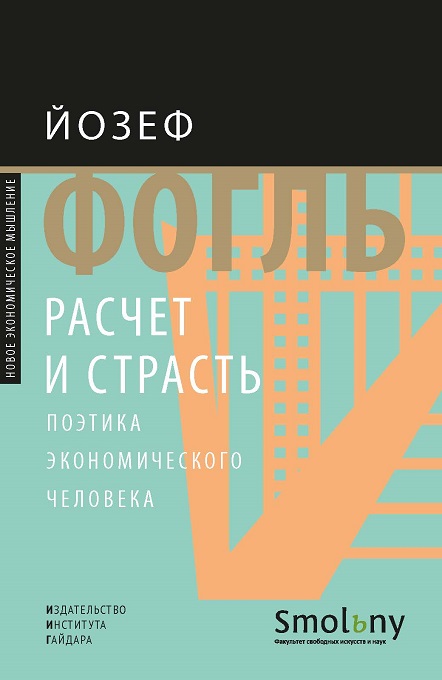 В подзаголовке «поэтика экономического человека» как будто содержится оксюморон: разве можно совместить душевные порывы и презренный металл? Профессор Йозеф Фогль уверен, что не только можно, но и нужно, потому что, во-первых, не существует экономической реальности в отрыве от реальности политической, социальной или художественной; во-вторых, любой научный текст — это текст, и построен он по определенным литературным законам. Игнорируя эти два факта, считает автор, современная историко-экономическая мысль обедняет себя и, главное, искажает исследуемый предмет. Фогль уверен, что не просто так: он преподает немецкую литературу в Берлинском университете имени Гумбольдта и интересуется междисциплинарными исследованиями на стыке литературоведения, media studies и экономики. «Расчет и страсть» — продукт именно такого интереса.
В подзаголовке «поэтика экономического человека» как будто содержится оксюморон: разве можно совместить душевные порывы и презренный металл? Профессор Йозеф Фогль уверен, что не только можно, но и нужно, потому что, во-первых, не существует экономической реальности в отрыве от реальности политической, социальной или художественной; во-вторых, любой научный текст — это текст, и построен он по определенным литературным законам. Игнорируя эти два факта, считает автор, современная историко-экономическая мысль обедняет себя и, главное, искажает исследуемый предмет. Фогль уверен, что не просто так: он преподает немецкую литературу в Берлинском университете имени Гумбольдта и интересуется междисциплинарными исследованиями на стыке литературоведения, media studies и экономики. «Расчет и страсть» — продукт именно такого интереса.
Фогль начинает рассказ с XVIII века, когда экономика претендовала на постижение сути человека и поэтому занимала привилегированное положение в иерархии общественных наук. Тогда она представляла собой конгломерат разнообразных сведений о человеческом общении, поведении, желаниях, богатстве и политическом правлении. Умами правил немецкий камерализм, предполагающий жесткое разделение системы государственного управления на непересекающиеся сферы. При этом всем ведомствам следовало подчиняться единым правилам оформления бумаг. Создание стройной структуры, в которой бы воплощались знания о государстве и населении, требовало собрать как можно больший перечень фактов обо всех проявлениях общественной жизни.
Камералисты сами служили воплощением универсализма — знатоки ремесел и математических инструментов, прекрасно образованные, повидавшие свет. Из их деятельности родились статистика, секретная служба, топография и бухгалтерский учет. Идеи камералистов также дали рождение полиции как надзорному органу управления, который призван регулировать непредсказуемое поведение индивидов. Экономическая теория в камерализме базировалась на концепции общественного договора: индивиды следуют частным желаниям, однако поведение всех вместе взятых людей можно просчитать подобно тому, как просчитывается механическое движение физического тела. Возможность единообразного расчета коренится в общей цели всех индивидов — увеличении собственного благосостояния.
Пока камералисты создавали всеобщую науку о порядке, в литературе переживал расцвет сентиментализм: писатели разбирали анатомию человеческих страстей и их основу, симпатию. Идея симпатии, показывает Фогль, повлияла на то, как экономисты понимали общественный договор: возникло представление о том, что общество объединяет не только стремление увеличить благосостояние, но и симпатия. Речь не просто о доброжелательности или сострадании; Адам Смит пишет о симпатии как о действии, в результате которого человек ощущает чувства другого, вживается в его роль. На эффектах симпатии основана и жизнь политического тела: общество представляет собой сложную систему симпатических связей, случайностей и непредвиденных последствий, которая позволяет индивидам на основе собственного и чужого опытов рассчитывать, что именно для них полезно, а что вредно, что ведет к счастью и благосостоянию, а что мешает этому. Такую рационализированную экономическую симпатию можно подытожить формулой «я сделаю то, что ты хочешь, если ты сделаешь то, что я хочу».
В литературе иллюстрацией подобных представлений об общественном договоре служит комедия Готхольда Эфраима Лессинга «Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье». Закончилась Семилетняя война, превратившая жизнь героев в неупорядоченное нагромождение неожиданных ситуаций. Они пытаются упорядочить хаос, вступая друг с другом в разнообразные экономико-правовые отношения. Сфера политического представлена в комедии полицейским надзором, которому требуется знать решительно все о передвижениях и мыслях героев; к королю как высшему гаранту порядка персонажи предпочитают не обращаться.
Постепенно акценты смещаются с неупорядоченности событий на их случайность. Любой факт необходим в общем плане мироздания, однако сам по себе является лишь вероятным и включенным в бесконечную сеть возможных связей. Интерес к вероятности отразился в изобретении романа как жанра, который описывает несуществовавшие, но не невозможные события. Понятый таким образом роман близок к энциклопедии, полному и точному зеркалу мира. Случайность в романе одновременно запускает действие и обрамляет его. Примерами таких цепочек возможных событий являются «Удивительные судьбы нескольких мореплавателей...» Иоганна Готфрида Шнабеля и «История Агатона» Кристофа Мартина Виланда.
Экономическое знание в середине XVIII века мыслится точно по такой же схеме — как экспансивный энциклопедический охват материальной и моральной жизни с включением вероятности. Неудивительно, говорит Фогль, что в это время расцвели азартные игры, лотереи, тотализаторы, демографические теории, страхование и вероятностное исчисление. Исток всех этих явлений один: страхование задумано как ставка на выигрыш или проигрыш, понимание которого связано со знанием о количестве и причинах смертей; лотереи и страховые проекты до XIX века воспринимались как общий комплекс и находились даже в одних и тех же конторах. Таким образом, случайность стала вероятностью, возможностью какого-либо события, и эта возможность стала называться риском. Риск — это возможность, которую можно просчитать, распределить и капитализировать.
Но риск также означает излишки, неравенство распределения возможностей. Поэтому в середине XVIII века основным для ученых-экономистов разных школ (камералистов, картезианцев, физиократов) стал вопрос о том, как наилучшим образом перераспределить неравенство для достижения баланса. Излишек понимался как затор в кровотоке общественного организма, который мешает планомерному развитию. Только равновесие может сделать людей счастливыми, а общества — процветающими. Примером решения проблемы излишков в мире является кровопускание — в широком смысле слова. Подобно тому, как больному необходимо пускать кровь, чтобы выпустить лишнее, так и обществам необходима война, чтобы избавиться от излишков популяций.
Однако в XIX веке выяснилось, что экономика всегда работает с избытком и никогда не возвращается к нулевой точке равновесия — для нее в целом характерны нерегулярные колебания. Помимо этого открытия теории физиократов подорвала инфляция в Англии, вызванная тем, что государственный банк отменил обязательство обменивать банкноты на монеты и начал бесконтрольно печатать бумажные деньги. Это выявило доселе скрытую природу денег: они перестали быть мерой стоимости, но стали сочетать в себе свойства наличности, на которую можно было что-то купить, и кредита — обещания заплатить позже настоящим металлом. Иными словами, указывает Фогль, деньги перестали выражать что-то конкретное, а стали лишь саморепрезентацией. Именно такое понимание денег мы видим в романе «Генрих фон Офтердинген» Новалиса, где поэзия уравнивается с меркантильным духом, который приводит в движение общественную жизнь. Деньги и поэзия запускают сложные цепочки циркулирующей причинности. Поэтому романтический роман не имеет ни начала, ни конца, ни результата, он течет, изображая саму жизнь в ее полноте.
На рубеже XVIII и XIX веков возникает новая теория кредита, пытающаяся объяснить двойственность этого феномена. Кредит, как и деньги, является одновременно и платежным средством, и признанием невозможности заплатить по счетам. Каждая транзакция производит лишь бесконечную череду других транзакций. В ситуации кредита индивид одновременно чем-то обладает и не обладает; единственный выход разорвать этот порочный круг — войти в него. В экономической мысли возникает представление, что систему циркуляции излишка и недостатка следует бесконечно поддерживать, поскольку равновесие системы сохраняется в ее неравновесии. Тем самым общество производит не излишки, а кредит, и именно он сплачивает людей.
«Романтическая экономика — говорит Фогль, — превратила теорию публичного кредита в социальную теорию и тем самым санкционировала фундаментальную реформу технологии правления». Теоретики романтической экономики, Фихте, Новалис, Адам Мюллер, спрашивали, как возможно строить теорию государства, когда суверен, гарант сплоченности общества, исчез, а вместо него только циркулируют ничем не подкрепленные знаки. Государство начинает мыслиться как организм, где цели и средства взаимно определяют друг друга. Жизнь представляется более не балансом и равновесием, а постоянной борьбой с распадом и умиранием.
Сдвиги в теории управления находят отражение в романе Гёте «Избирательное сродство». Но уже в «Фаусте» мы видим следующий исторический шаг: политическое тело окончательно распадается — это показывает сцена, где император перестает узнавать свою подпись. Также в «Фаусте» понятия делания, действия и порождения превращаются в то, что позже в современной экономической теории будет называться трудом.
Если до XIX века люди трудились ради удовлетворения своих потребностей, то в XIX веке эта схема изменилась — продуктивным стал считаться труд, который выполняется ради безграничных желаний. Труд не просто преобразует материю; начинаясь с нужды, он производит излишки и в итоге снова приходит на стадию дефицита. Таким образом, Фауст — это «человек, ощущающий в изобилии недостаток, в нехватке обнаруживающий условие своего желания и владеющий искусством неадекватности, а именно желанием конечных благ в бесконечном стремлении». Это и есть экономический человек нового типа, которым правят дефицит, нехватка, бесконечное стремление и производительно-потребительный труд. Здесь уже начинают виднеться очертания современной политэкономии, и Фогль останавливается.
Чем же нам может быть полезен подробнейший 600-страничный анализ сложных взаимоотношений экономики, политологии и немецкой литературы XVIII века?
Во-первых, из «Расчета и страсти» следует, что незнание экономических реалий обедняет восприятие художественных произведений. За отдаленностью во времени мы не схватываем факты общественной жизни и удовлетворяемся красотой языка и коллизии. Однако погружение в контекст все меняет. К примеру, Лессинг писал «Минну фон Барнхельм» в Бреслау, где министр короля Фридриха II пытался провести денежную реформу, чтобы защитить внутреннюю торговлю от колебаний иностранной валюты. Эта реформа хотя и не упоминается в комедии, но фоном присутствует, и без нее невозможно понять до конца отношения героев.
Во-вторых, Фогль демонстрирует, что экономические теории — не истины в последней инстанции, лишь способ описания, в том числе и с помощью литературных средств, достаточно условной реальности. Иначе говоря, чтобы понимать экономические факты, самим экономистам полезно выходить в параллельные области знания.
Наконец, книга обнаруживает неожиданную подоплеку привычных явления. Возьмем, к примеру, то же страхование рисков. Каждый месяц в коммунальных квитанциях мы получаем предложение застраховаться. Но зачем платить за то, что может и не произойти? Что это за возможное, которое каждый месяц требует у нас деньги? Однако никого это не смущает: банки предлагают защитить от любой случайности, люди соглашаются и платят, тем самым эта пугающая случайность перестает быть такой уж страшной, на нее навешивают ценник и вводят ее в общий порядок дел в мире. Прогнозируемые риски, лотереи, элементы статистики, бухгалтерского учета образуют калейдоскопический детективный мир, в который интересно погружаться.
Но есть и минусы. Фогль находится под сильным влиянием постструктурализма; не случайно он занимался переводами на немецкий работ Делеза и Лиотара. Нет сомнений, что профессор по-структуралистски лихо перешагивает дисциплинарные границы, но также верно и то, что пишет он мучительно: водит читателя кругами, использует зубодробительный лексикон (чего стоит одна «депарадоксализация») и выкручивает простые мысли до состояния, когда их чрезвычайно трудно разобрать.
Отвлекает от чтения и восторг, с которым Фогль обнаруживает исчезновение непоколебимых образований (суверен, деньги и т. д.). Поначалу его реакция умиляет, но затем начинает казаться, что умиление игрой репрезентаций не добавляет ясности в том, что происходит с опорными понятиями текста. Создается ощущение, что автор увлекся и забыл сказать нам нечто важное о сути описываемых событий.
При чтении в голове складывается целый хор философских голосов (Френсис Йейтс, Эрвин Панофски, Бруно Латур, Жиль Делез и другие). И все бы хорошо, но в «Расчете и страсти» они поют столь громко, что заглушают собственный голос автора. В итоге перед нами книга на безусловно интересную тему в довольно-таки невыносимом исполнении.
