«Саша, привет!» Дмитрия Данилова: ПРОТИВ
Денис Епифанцев — о том, почему это даже не минимализм
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Дмитрий Данилов. Саша, привет! М.: Редакция Елены Шубиной, 2022
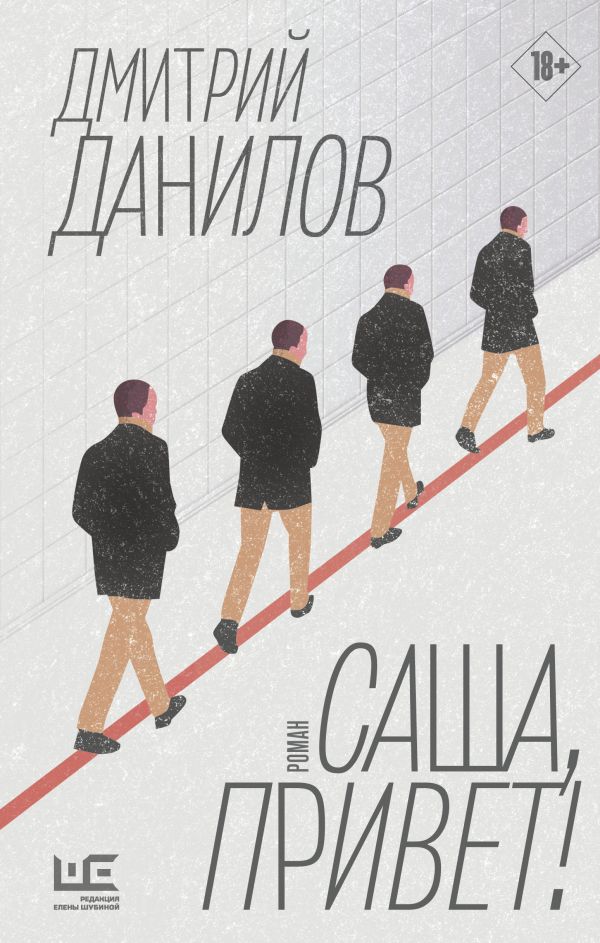 Итак, что мы знаем.
Итак, что мы знаем.
Мы знаем, что Дмитрий Данилов мастерски рассказывает анекдоты. Его две самые известные вещи — «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой» — это прямо образцы того, как вроде бы рассказывается одна история, а потом несколько реплик превращают ее во что-то совершенно другое.
«Человек из Подольска» начинается как классический американский хоррор про «Поворот не туда». Ну, его русская версия. В оригинале студенты, повернув не туда, оказываются в дикой глубинке и все заканчивается расчлененкой, а в русской версии государственная машина берет человека в оборот и каждое движение — попытка вырваться, оправдаться — еще больше все запутывает (и ты очень боишься, что расчлененка вот-вот начнется). Но автор добр. Всего несколько слов ближе к финалу — и вся история переворачивается и становится абсурдным анекдотом о любви к малой родине. «Сережа очень тупой» начинается как комедия абсурда и остается таковой почти до самого конца, только в финале реплики жены героя подсвечивают всю картинку девидлинчевским ужасом и курьеры оказываются не тем, чем кажутся.
Ну то есть Дмитрий Данилов умеет рассказывать что-то среднее между Кафкой и Ионеско, но с местным колоритом и какой-то утешительной добротой.
Главное же в этих «анекдотах» — их объем. И «Сережу очень тупого» и «Человека из Подольска» можно прочитать за несколько часов. И там прямо видно, что добавлять что-то и не надо. История рассказана полностью.
Роман «Саша, привет!», на первый взгляд, обещает, что будет как в пьесах, только объемнее. Формат книги, конечно, небольшой, шрифт детский, объем 250 страниц — но больше же, больше.
Главный герой — Сережа, молодой ученый, филолог, специалист по русской литературе двадцатых — тридцатых годов, работает в МГУ. Он осужден на смертную казнь. Теперь ему предстоит отправиться в тюрьму — это камера как в обычном трехзвездочном отеле, безлимитный интернет, отличное питание, возможность заказывать доставку почти всего, что хочешь (в пределах разумного), прогулки каждый день в саду с видом на Москву (тюрьма — комбинат, как это называется в романе — стоит посреди Москвы). Единственное: каждый день он должен ходить на прогулку по коридору, в котором под потолком висит пулемет. Охранники зовут пулемет Сашей, и в какой-то неизвестный день («Вы можете прожить тут всю жизнь, дожить до старости и умереть естественной смертью»), когда Сережа будет идти по этому коридору, пулемет сработает и расстреляет приговоренного к смерти. Но когда — неизвестно. Может быть, сегодня, а может — и через много лет. Никто не знает, как устроен алгоритм.
Первую ассоциацию сразу отметаем. Это точно не кафкианская история. Это не «Процесс». Это мог бы быть «Процесс», но для самых маленьких: Кафка глазами детских писателей в стихах и картинках. В таком ключе возможно. В оригинальной сказке про Золушку мачеху и ее дочерей зверски убили, а в детской версии — просто выслали из королевства. Здесь раскаленных железных башмаков нет, насилия нет, нет звериной серьезности и механической неизбежности. Мы с самого начала знаем, за что именно приговорили Сережу к смертной казни: он занимался сексом по взаимному согласию со своей двадцатилетней студенткой, но по новому закону возраст совершеннолетия наступает в 21 год, и поэтому это как бы совращение несовершеннолетних. И это (а также экономические преступления) теперь карается смертной казнью.
Перед тем как отправиться в тюрьму, сразу после объявления приговора, Сережа заходит к жене (она тоже филолог и тоже специалист по русской литературе 1920-х), к маме (она тоже филолог), разговаривает с завкафедрой, где он работает, встречается со студенткой, напивается дешевым алкоголем и катается на МЦК. Потом собирает чемодан и в назначенный день приходит в «Комбинат». На восьмидесятой странице Сережа в первый раз должен пройти по коридору с пулеметом. Сережа очень боится. Хотя мы знаем, что в романе 250 страниц и его точно не расстреляют, к восьмидесятой странице уже хочется, чтоб расстреляли.
Первые восемьдесят страниц не происходит вообще ничего. Мы узнаем про приговор, про пулемет и про студентку, но первые восемьдесят страниц — это почти полностью бессмысленный обмен репликами. Реплики бессмысленные, все помногу раз уточняют слова, извиняются, извиняются за то, что извинились, снова извиняются, снова переспрашивают, что имел в виду собеседник, не понимают, переспрашивают, извиняются, что не поняли сразу, рассказывают, как они услышали.
Потом Сережа гуляет по Москве. Потом заходит к маме, и круг реплик повторяется по новой.
Потом Сережа снова гуляет и встречает студентку, и круг реплик повторяется по новой.
Потом Сережа заходит к завкафедрой.
По идее, это, видимо, должно пародировать живую жизнь — мол, вот такая она живая жизнь: люди говорят бессмысленные наборы слов, которые крутятся вокруг темы пулемета, внезапности смерти, абсурдности приговора и того, что Сережа не знает, как еще описать свое состояние, кроме слова «нормально». Главного не говорят, только к словам цепляются.
(Представьте себе долгую, душную, похожую на кошмар финальную сцену «Того самого Мюнхгаузена», где барон просит Марту сказать самые главные слова, и она бежит и кричит: «Карл, я люблю тебя», «Карл, я буду ждать тебя», «Карл, я назову сына в твою честь», «Карл, ты был самой большой любовью в моей жизни»... и так далее. А про сырой порох ни слова.)
Первые восемьдесят страниц не происходит ничего, и, кажется, что что-то начнется, когда Сережа наконец-то отправится в тюрьму. Но в тюрьме тоже ничего не происходит. Вместо жены, мамы и студентки к Сереже приходят батюшка, раввин, мулла и лама, круг интересов которых, правда, примерно такой же, как у жены и мамы: как вы себя чувствуете — нормально.
И все это вместе напоминает второй сезон плохого сериала, когда какой-никакой сюжет кончился, снимать надо и требуется интрига. Во втором сезоне плохого сериала в таких случаях возникает давно потерянная дочь / пропавший брат или кого-то из существующих героев засыпает лавиной. И машинка вроде крутится.
Удивительно же то, что «Саша, привет!» — не только совершенно пустая книга (разочаровавшийся в вере священник — не новость), но и с профессиональной точки зрения какая-то беспомощная, что еще более удивительно, учитывая, кто автор.
С другой стороны, всегда надо исходить из мысли, что, возможно, я чего-то не понимаю. Возможно, я — как герой пьесы «Сережа очень тупой» — очень тупой. Автор выбирает тот или иной прием, ту или иную манеру речи, чтобы рассказать свою историю не просто так, он что-то имеет в виду. Не только сюжет несет информацию, но сам подбор слов, то, в каком порядке они расположены, может давать информацию. Художественный текст — сложная штука, там много всего. А литература, как учит нас Барт, — это набор техник и их комбинации. В этой комбинаторике заключается удовольствие.
Поэтому предположим, что этот сухой, лаконичный, местами напоминающий Ctrl+C — Ctrl+V стиль, которым написан роман, слова, собранные так, что там нет никакого второго дна, нет никакой метафоры, нет никакой глубины, — это специально. Это важно. Это знак.
Допустим, это такой минимализм. Тоже форма. Тем более что «Саша, привет!» в этом году в длинном списке «Национального бестселлера», и в этом же списке есть книга Анатолия Гаврилова «Под навесами рынка Чайковского», которая не то чтобы совпадает в манере с «Саша, привет!», но вот в этой «простоте изложения» могла бы составить конкуренцию. То есть вдруг, пока я читал Пруста, запершись на карантин, что-то изменилось, а я не в курсе и теперь так носят.
Это не наша тема, но, вероятно, имеет смысл сравнить два способа рассказывать истории, чтобы на фоне одного подсветить другой. Сборник Гаврилова — здесь попробуем выразиться максимально просто — представляет собой много отрывков. Наверное, есть какое-то специальное название для такого жанра, отдельное. Но я не знаю. Возможно, подойдет слово «пастиш в своем» первоначальном смысле — пирог из разных остатков.
Гаврилова можно открыть в любом месте: «Ветер гонит по улице опавшие листья. Луга еще зеленеют. Древние греки пасут на древних пастбищах древний домашний скот. Испанский флот выходит на подавление исламских мятежей на юге Манилы. Впрочем, скоро зима, а ни угля, ни дров».
Вот что это? Буддийский коан? Хокку? Книга Гаврилова вся состоит из более-менее вот таких фраз. Там нет начала и конца, нет контекста. Нет ни сквозного персонажа, ни общей линии. Просто набор высказываний. Записная книжка поэта?
Но вообще-то мы знаем, что такое хокку. Мы не лишены этого знания и способны смотреть с высоты читательского опыта. У японской поэтессы XVIII века Тиё-ни есть хокку, написанное на смерть сына:
Мой ловец стрекоз,
О, как же далеко ты
Нынче забежал...
Здесь все работает: контекст высказывания и само высказывание. Глубокий смысл, эмоция, передача этой эмоции поэтическими средствами. Триста лет прошло, а сердце отзывается.
Есть другой вариант — тоже чистый формализм — то, что у Владимира Сорокина было в рассказе «Соловьиная роща». Когда фразы складывались одна к другой по принципу подобия: «Как же я теперь буду людям в глаза смотреть. — Прямо. Прямо и направо, — ответил милиционер».
И тут та же проблема, что и с хокку, — контекст есть. Он лежит в области официальной советской литературы, он считывается теми, кто знает, кто читал эти тексты, кто опознает их на раз, но контекст существует.
Не говоря уже о буддийских коанах.
Не говоря уже о записных книжках поэта.
Мы знаем, как выглядит минимализм. Мы читали Довлатова.
Поймите правильно, минимализм — тоже форма, она может быть не близка читателю, но имеет место. Минимализм — это не когда ты экономишь на описаниях или не даешь герою что-то чувствовать, а читателю чему-то сопереживать, а, наоборот, рассказываешь всю историю простыми словами и останавливаешься, когда надо. Быть тонким поэтом и имитировать глубину — не одно и то же.
Проблема «Навесов рынка Чайковского» в том, что, очистив текст от контекста и глубины, выдав просто текст, такую «нулевую степень письма», где в самом высказывании сополагаются противоречивые вещи, что должно выглядеть глубокомысленно, такие «Плоть и кости дзен и работа кочегаром в 1984 году», Гаврилов автоматически лишил возможности критиков защищать его от медицинских и юридических редукций. Если прав Жак Деррида, который говорит, что только в этом задача критики — объяснять публике, почему этот автор не сумасшедший, который просто записывает свой бред на бумагу, а настоящая литература, — то в данном случае лишенные контекста и не способные назвать эти высказывания даже поэтическим (нет там поэзии) критики вынуждены этот контекст вносить сами. Все положительные объяснения, почему эта книга — это книга (хотя бы книга), больше говорят о пишущем, чем об объекте критики.
Но возвращаясь к Данилову.
Вот этот минимализм и скупость языковых средств, а также невнятно абсурдный сюжет в том социальном контексте, который роман своим абсурдом как бы выворачивает, создают какой-то уж очень специальный эффект.
Не то чтобы мне учить кого-то, как писать, но мне всегда казалось, что абсурд работает на сдвиге рационального и безумного. «Человек из Подольска» начинается как зарисовка из обычной жизни, потом появляется безумие, но такое крепкое и реалистичное, так укорененное в действительности, что ты в это безумие веришь, как в реальность: да, такое может быть. Когда в финале автор чуть-чуть докручивает контрастность, чуть-чуть добавляет яркости, безумие выворачивается абсурдом.
В «Саша, привет!» ничего этого нет. Молодой ученый-филолог, оказавшись запертым в тюрьме, не начинает, например, читать книги (которые до этого откладывал, потому что времени нет) или работать над исследованием в надежде успеть закончить до расстрела, мы вообще не знаем, как он проводит 24 часа в запертой комнате. Он иногда заказывает себе алкоголь и закуску и иногда публикует фото в соцсетях. Никто из его родных не звонит ему с вопросом, жив ли он. А когда он им звонит, они говорят ему: Сережа, ну ты же уже мертв, зачем поддерживать этот бессмысленный разговор. И я могу понять его жену — он ей изменил, — но мама? Сам он 24/7 думает о пулемете безо всякой адаптации. Не вспоминает свою жизнь — каким было детство, как познакомился с женой, как встретил эту студентку. Новый странный опыт не становится катализатором для работы (написать роман) и не прорывается в тех же постах в соцсетях: я приговорен, и что я думаю про жизнь, про устройство общества, расскажу вам историю из 20-х, у другого писателя было такое, вот мой завтрак. Все мысли только про пулемет. Это какое-то абсолютное ничто. Люди без свойств.
Но не только герои — сам текст сделан так, чтобы не вызывать никаких эмоций. Это телефонная книга, а не роман: «Мы видим, как Сережа идет по пешеходной дорожке к дому, идет по тротуару вдоль дома, подходит к подъезду. Дом обычный, современный, многоэтажный, не элитный, не бизнес-класса, но и не старый, брежневский или хрущевский, просто относительно современный московский многоэтажный дом, серии П3 или КОПЭ или П44Т, что-то примерно такое. Этажей в доме много — ну да, он же многоэтажный. Сережа подходит к подъезду, прикладывает к круглой штучке на железной двери круглую штучку на связке своих ключей, раздается писк, Сережа открывает дверь, входит в подъезд, здравствуйте, Наталья Семеновна, Наталья Семеновна величественно кивает, Сережа идет к лифту, вызывает лифт, ждет, лифт подъезжает, Сережа входит в лифт, нажимает кнопку своего этажа, лифт начинает движение».
И так написан весь роман, все 250 страниц: эмоции, впечатления, диалоги, страх и радость. Ирония, гипербола. Ничего. Автор только периодически делает ремарку: представьте, что вы смотрите кино. Ну вот как бы эта сцена выглядела в кино? Ну вот представьте себе, как это выглядит в кино, вот так это выглядит и сейчас.
У Эльфриды Елинек есть роман «Любовницы». Там одна из героинь, насмотревшись кино, мечтает о другой жизни — та, которая у нее есть, жестокая и безрадостная. Она влюбляется в самого красивого парня в деревне и хочет выйти за него замуж. Парень же не хочет жениться, он хочет мотоцикл.
Роман «Любовницы» написан таким же, как и «Саша, привет!», сухим, условным языком, но «бешеной деревенской бабе», как ее характеризовал Виктор Топоров, удается то, чего не удается Дмитрию Данилову, — сделать персонажей живыми, вызвать к ним сочувствие и даже такую пустую интригу превратить в греческую трагедию:
«Они вместе идут в старый сарай, теперь уж ведь все равно. Паула перенесла такое, что по сравнению с тем все, что ей сейчас предстоит, — просто настоящий отдых. Наконец-то она может спокойно лежать на спине и отдыхать.
Над сжатым полем в сторону леса летит птичья стая. Скоро осень.
Знаете, читатели дорогие, за те деньги, что вы заплатили, не рассчитывайте на красочные описания природы! Тут вам не кино!
Паула спокойно и безмолвно лежит на спине, от посторонних глаз ее укрывает натруженная спина Эриха, который гоняет туда-сюда по ее телу. Зато она теперь может чуток передохнуть и посмотреть в голубое небо через дыры в кровле. Воздух уже холодный, скоро начнутся первые снегопады. Вот только будущее никогда не начнется. По земле стелется туман, лес поднимается словно стена, сумерки постепенно укрывают светлые стволы деревьев. „Природа беспощадна, — думает Паула, — она сильнее человека, в ней таится древняя сила“».
Ну видно же, да? Те же слова, в том же порядке. Такой же сухой перебор фактов. Та же манера рассказывания истории. Но в одном случае текст — просто буквы на бумаге, а в другом — картинка в голове.
Единственная зацепка, которая, кажется, может объяснить, почему «Саша, привет!» выглядит вот так, — это тот факт, что герой романа Сережа и его жена — специалисты по русской литературе 1920-х. Это прямо подчеркивается, прямо лезет в глаза. Не просто работает в МГУ, молодой ученый, не просто филолог (могли бы и этим ограничиться), не просто специалист по русской литературе — а именно вот 20-е.
И когда начинаешь думать почему Сережа выбрал себе именно такую планиду, то естественно вспоминаешь Леонида Добычина. «Саша, привет!» стилистически выглядит как «Город Эн» Добычина, ходит как «Город Эн» и крякает так же.
Но это не он.
Те обвинения в формализме, которые довели Добычина до самоубийства, вообще-то имели под собой основу (исключая тот факт, что формализм — это не повод доводить людей до самоубийства). «Город Эн» — хрустящая, искрящаяся проза, где за самой формой, похожей на бесконечную коробку фабричного печенья, скрывается высказывание автора, его позиция — ну и это просто красиво. Там получается история, персонажи, вот это вот все, что мы зовем литературой.
То, как Данилов использует формальный прием и с его помощью пытается рассказать историю, не вызывает никаких чувств. Это и не печенье вовсе, а как будто ватные диски.