«Самое страшное: ослепнуть перед смертью и заживо падать с большой высоты»
Артём Роганов — о романе Андрея Гоголева «Свидетельство»
Небольшой по объему роман поэта, писателя и переводчика Андрея Гоголева вошел в
Андрей Гоголев. Свидетельство. Ижевск: Шелест, 2019
 Иногда, чтобы добиться чего-либо, нужно не особо пытаться это сделать, — известный в литературе, как и во многих других сферах, парадокс. Он бывает уместен и в случае с такой туманной художественной задачей как написать роман о поколении. Тем более что поколение — сообщество чаще всего настолько воображаемое, что говорить о нем убедительно становится возможно лишь спустя время, когда люди, которые могут недовольно воскликнуть: «Нет, у меня и моих ровесников все было иначе!», уже сами не совсем помнят, что сказано или написано про них, а что — нет. Книга Андрея Гоголева «Свидетельство» иллюстрирует подчеркнуто частный, субъективный опыт становления человека в первое постсоветское пятнадцатилетие. Внимание здесь смещено в сторону индивидуальных переживаний и наблюдений рассказчика, сначала маленького мальчика, а затем подростка. Вопреки, а скорее даже благодаря этому остранению, роман, если не «свидетельствует» о поколении, то потенциально позволяет каждому читателю почувствовать с героями некую историческую общность. Но чтобы понять, как именно и почему это происходит, сначала следует разобраться в других особенностях книги.
Иногда, чтобы добиться чего-либо, нужно не особо пытаться это сделать, — известный в литературе, как и во многих других сферах, парадокс. Он бывает уместен и в случае с такой туманной художественной задачей как написать роман о поколении. Тем более что поколение — сообщество чаще всего настолько воображаемое, что говорить о нем убедительно становится возможно лишь спустя время, когда люди, которые могут недовольно воскликнуть: «Нет, у меня и моих ровесников все было иначе!», уже сами не совсем помнят, что сказано или написано про них, а что — нет. Книга Андрея Гоголева «Свидетельство» иллюстрирует подчеркнуто частный, субъективный опыт становления человека в первое постсоветское пятнадцатилетие. Внимание здесь смещено в сторону индивидуальных переживаний и наблюдений рассказчика, сначала маленького мальчика, а затем подростка. Вопреки, а скорее даже благодаря этому остранению, роман, если не «свидетельствует» о поколении, то потенциально позволяет каждому читателю почувствовать с героями некую историческую общность. Но чтобы понять, как именно и почему это происходит, сначала следует разобраться в других особенностях книги.
Автор романа в целом может похвастаться умением говорить о том, что непосредственно в повествовании вынесено за скобки. Глобальные исторические события упоминаются фоном или деталями вне контекста. Умолчание — не способ добавить интриги, а один из ключевых принципов высказывания. То есть прием не столько даже сюжетный, сколько стилистический. В этом фрагменте, например, речь явно идет о событиях 11 сентября, хотя нет даже уточнения, что герой видит происходящее на экране:
«Горит небоскреб. Я знаю, что сейчас врежется второй самолет, что уже летит. На остановке Матвей: хорошо, что мы живем тут; здесь никогда не будет такого; спокойно тут. Страшнее всех было тем, кто умирал в самолете с закрытыми окнами. Самое страшное: ослепнуть перед смертью и заживо падать с большой высоты в заколоченном гробу».
Сам текст разбит на небольшие фрагменты, местами напрямую не вытекающие друг из друга. К середине книги фрагменты становятся короче, а под конец относительно цельные сцены все чаще чередуются с записями в одно-два предложения. Из классических произведений такая архитектоника больше всего напоминает «Циников» Мариенгофа, но в «Свидетельстве» она выглядит хаотичней и лишена нумерации глав. При этом событийная логика прослеживается четкая, и из фрагментов складывается вполне ясная последовательность: детство в Казахстане, переезд в Россию подальше от тревожной атмосферы теперь уже самостоятельной республики, провинциальная школа в России, где нюхают «морилку» и дерутся цепями, первая любовь, окончательное взросление. Автор упоминал, что хотел написать роман, который можно читать с любого места, и сюжетная канва действительно не требует строго хронологического чтения — по крайней мере, если начать роман с конца, смысл останется ясен и принципиально не поменяется.
В «Свидетельстве» письмо от первого лица в настоящем времени приближается даже не к дневнику, а к стенографии мыслей, в том числе благодаря их трансляции стилем разговорной речи, где порой опускаются необходимые грамматические конструкции. «На краю дороги самовар» — отдельный фрагмент. Больше ничего по этому поводу сказано не будет. Учитывая контекст отъезда из небезопасной приграничной зоны, может возникнуть вопрос, имеется в виду непосредственно сосуд для кипячения воды или, в переносном смысле, человек с отрубленными конечностями. Понятно, что второе значение этого слова рассказчику-ребенку едва ли известно, но тем не менее. Отсутствие контекста и пояснений к сиюминутной речевой фиксации фактов и впечатлений — постоянный прием, местами комичный, но в целом оправдывающий замысел и название, а также провоцирующий на активное читательское сотворчество. Здесь часто описываются чувства и экспрессия, но сама интонация рассказчика остается максимально холодной. Подобного рода поток сознания роднит повествование с распространенной техникой медитации, когда нужно стараться посмотреть на мысли и эмоции со стороны, абстрагировавшись от своего «я». Рассказывая о чем-либо, герой будто бы медитирует — проводит аудит собственных переживаний и происходящего вокруг.
 Андрей Гоголев. Фото: личная страница Вконтакте
Андрей Гоголев. Фото: личная страница Вконтакте
Опять же, что характерно и для медитации, в тексте часто возникает свободный ассоциативный ряд. Иногда он встраивается в логичную историю, чтобы создать поэтический образ, а иногда фрагмент полностью посвящен ассоциациям, как, например, тот, где герой присваивает явлениям цифры и буквы, стоя на кухне. Сперва его бурная фантазия может навести нас на мысль, что у него не все в порядке с психикой. Гладильная доска ходит, по ночам летают «котелки» — это описывается подробно, с холодной уверенностью. Но перед нами все же скорее магический, живой мир детства, который вскоре постепенно начнет растворяться, оставляя взамен довольно неприглядную реальность с насилием, бедностью и наркотиками. Кроме того, в романе присутствует немало синестетических эпитетов, как, например, цвета запахов или звуков. Синестезия тоже ближе к концу отойдет на второй план, по мере взросления рассказчика стиль вообще становится все более традиционным, но его магистральной линией останутся неочевидный метафоризм и контрастные, по всем заветам обэриутов не несущие напрямую никакой дополнительной для истории нагрузки, детали. Тень водителя, сбившего пешехода, похожа на глаз. Мужчина с молотком в ведре проходит мимо, когда герой стоит всю ночь возле дома девушки, в которую влюблен. Второстепенное подается как нечто важное, выпуклое, содержащее мистический подтекст и пунктирную символическую связь с сюжетом.
Если рассматривать каждую из этих особенностей по отдельности, то очень скоро выяснится, что роман Андрея Гоголева опирается на довольно широкий корпус текстов. Стенографическое повествование местами напоминает «Горизонтальное положение» Дмитрия Данилова. Внимание к деталям и общая фабула взросления на фоне перемен в истории — «Город Эн» Леонида Добычина. Проглатывание контекста наводит на мысли о целом перечне модернистских и постмодернистских текстов от Джеймса Джойса до Михаила Шишкина, но прежде всего вызывает ассоциацию с первой частью «Шума и ярости» Уильяма Фолкнера. Однако все вместе складывается в оригинальный текст с самобытным, если пользоваться терминами из психологии, не шизофреническим, но шизотипическим акцентом. К тому же особую роль в романе играют абстрактные символы, страхи, сны и мечты. Влюбленность героя в радиоведущую, которая говорит на непонятном ему французском, те же загадочные котелки — по идее характерные детские фантазии предстают детализированными, жутко серьезными. Какими они порой и кажутся в детстве. Сны описываются с такой же четкостью, как происходящее в реальности, и это придает оттенок сновидения всему роману. Некоторые фрагменты очень похожи на сон, однако не указывается, что рассказчик спит. Яркий пример — момент, где герой стоит около двери с крестом и спрашивает себя, как он сюда попал.
Среди многочисленных сквозных символов в романе, пожалуй, чаще всего встречается именно крест. Он словно намекает на постоянную близость потустороннего, ирреального мира, который обозначает в том числе подсознание самого героя. Движения подсознания старательно выносятся на один уровень с событиями вроде бы реальными. Подобный прием помогает передать индивидуальный опыт протагониста во всей его полноте. И передать только его. Если что-то где-то сказано или услышано, а не исходит от рассказчика, это подчеркивается. Роман Андрея Гоголева в целом оставляет ощущение попытки прицельно описать чистую индивидуальность — ту совокупность влияний языковой матрицы, среды или генов, которая уже представляет собой нечто качественно новое, но еще не до конца пропитана социальными отношениями и условностями, пока может восприниматься отдельно от того, что в терминах психологии называется личностью. Поэтому роман изобилует умолчаниями, снами и мимолетными впечатлениями. Поэтому финал напоминает галлюцинацию, а вопрос о судьбе героя кажется чуть ли не открытым. Ведь тут, как в похожей по концентрации на субъективном восприятии поэме Венедикта Ерофеева, даже не особенно важно, что в итоге случилось на самом деле. Во-первых, как такового «на самом деле» нет, а есть лишь извилистая лестница из впечатлений и ощущений. Во-вторых, по-настоящему значимо, что описываемая индивидуальность в итоге полностью встраивается в общественные отношения, принимает определенные правила игры и, таким образом, исчезает как нечто независимое. Свидетельствовать о ней дальше, само собой, становится невозможным.
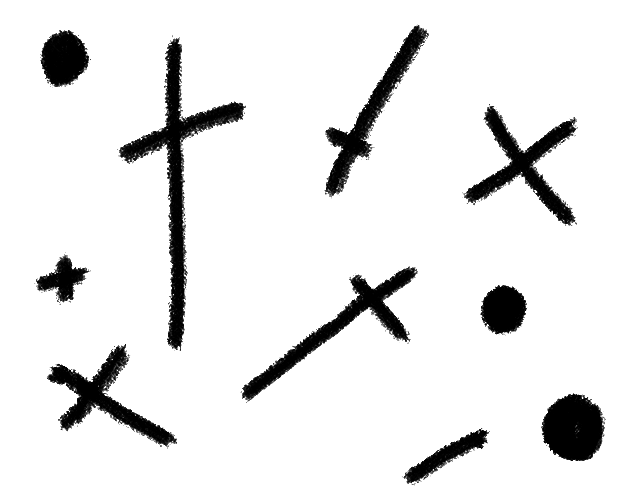 Зато возможностей для читателя открывается немало. Погружение в очищенный от контекста индивидуальный опыт заставляет заполнять смысловые лакуны контекстом собственным, достраивать его, исходя уже из своего опыта. Например, фрагмент с теми же самолетами может восприниматься человеком, пережившим в детстве войну, не как события 11 сентября, показанные по телевизору, а как неудачный налет. В результате особый ракурс «Свидетельства» подталкивает читателя обращаться к детской и юношеской истории себя и своего окружения, то есть к тому образу своего поколения, который сформирован в голове каждого из нас. Причем для этого совершенно необязательно быть ровесником героя.
Зато возможностей для читателя открывается немало. Погружение в очищенный от контекста индивидуальный опыт заставляет заполнять смысловые лакуны контекстом собственным, достраивать его, исходя уже из своего опыта. Например, фрагмент с теми же самолетами может восприниматься человеком, пережившим в детстве войну, не как события 11 сентября, показанные по телевизору, а как неудачный налет. В результате особый ракурс «Свидетельства» подталкивает читателя обращаться к детской и юношеской истории себя и своего окружения, то есть к тому образу своего поколения, который сформирован в голове каждого из нас. Причем для этого совершенно необязательно быть ровесником героя.