«Самое интересное в истории не сводится к тому, что было»
О монографии Зинаиды Чеканцевой «Время историка»
Адресованная специалистам по теории истории монография Зинаиды Чеканцевой представляет собой редкий пример глубокой и увлекательной проблематизации исторического знания в современных российских условиях — и потому заслуживает внимания самой широкой гуманитарной общественности. Опытом ее прочтения делится Андрей Олейников.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Зинаида Чеканцева. Время историка: историческая культура и эпистемология эпохи антропоцена. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2024. Содержание
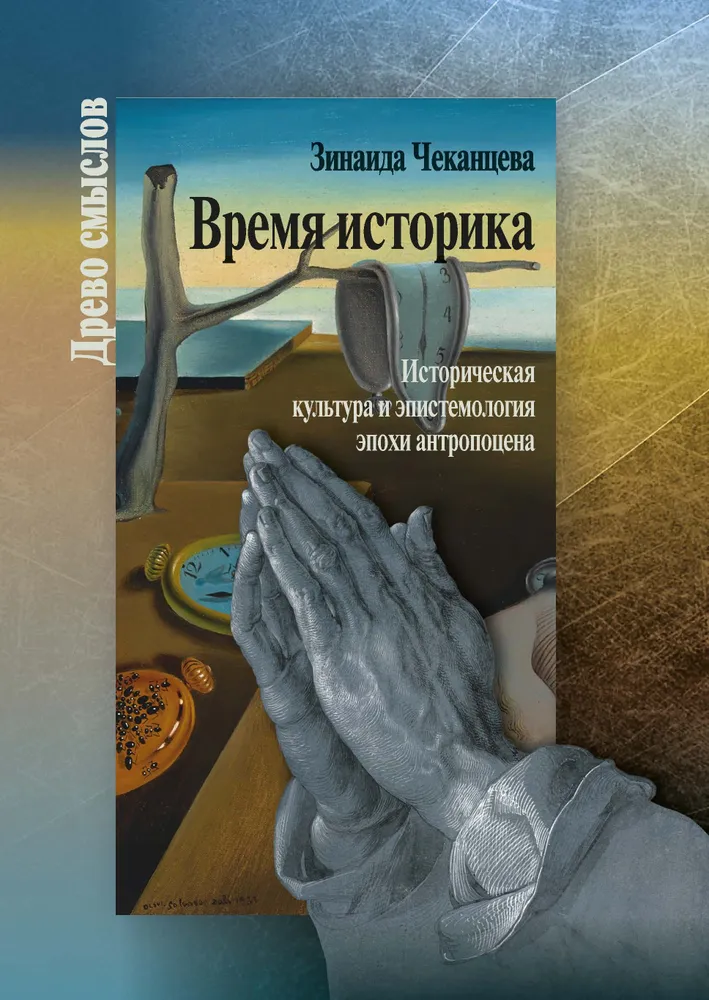
Зинаида Алексеевна Чеканцева принадлежит к поколению российских историков, чье профессиональное становление счастливым образом совпало со временем перестройки. Специалист по социальной истории Франции XVII-XVIII веков, согласно своей первоначальной научной подготовке, со второй половины 1990-х годов она все активнее занимается теорией историографии, которая, начиная с 2010-х годов, превращается в главный предмет ее исследований. Важной отличительной чертой работ Чеканцевой является нетипичное для ее профессиональной среды весьма благосклонное отношение к тому, что у нас принято называть постмодернизмом. В отличие от многих своих коллег, воспринявших это явление как досадное или даже зловредное недоразумение (производное от лихих девяностых), Чеканцева отнеслась к нему со всей серьёзностью, сумев разглядеть в нем самое главное — запрос на понимание места и предназначения исторического знания в драматически изменчивой общественной жизни рубежа столетий.
Книга, собранная из статей, написанных в течение последних десяти лет, охватывает широкий спектр проблем, находящихся на переднем крае современной теории истории. В научной литературе они нередко обозначаются с помощью термина «поворот» — так же поступает и Чеканцева, говоря о «лингвистическом», «культурном», «рефлексивном», «темпоральном» и других поворотах в осмыслении исторических явлений. Каждый из них занимает свое место в структуре книги, но особое значение автор придает тому, что называет «перформативный», или «прагматический поворот». И дело тут не только в теории речевых актов Джона Остина, оказавшей поистине революционное влияние на философию гуманитарного знания во второй половине XX века, дело скорее в принципиальной установке Чеканцевой считать историей только то, что является продуктом мысли, чувства, настроения и в широком смысле деятельности историка. Утверждая это, она, по сути, упраздняет традиционный корреляционизм, вынуждающий мыслить историю сразу в двух ипостасях — как самодовлеющую реальность прошлого и как ее достоверную (или научную) историографическую репрезентацию. По убеждению автора, история — это то, что пишут историки. Но они не просто пишут — они производят на свет реальность, о которой сообщают. Поэтому, с точки зрения Чеканцевой, было бы неправильно, повинуясь давней привычке, говорить о том, что история является наукой о прошлом. Вслед за французским медиевистом Жозефом Морселем, она признает, что прошлое уже не годится на роль объекта историографической практики:
В таком качестве этот объект блокирует трансформации, скрывает конструктивистский характер исторического дискурса, составляет основу телеологического подхода, порождает музеефикацию и архивацию исторических данных, а также нередко используется для легитимации настоящего.
Упрямство, с которым прошлое продолжает навязываться в качестве подобного объекта, говорит о живучести метафоры «следа», внушающей историкам, верным «уликовой парадигме» Карла Гинзбурга, что их главная миссия — кропотливо воссоздавать навсегда утраченную действительность. Однако Чеканцева, беря в союзники Жоржа Диди-Юбермана, отказывается считать прошлое безвозвратно ушедшим и предлагает мыслить его как симптоматическую часть реальности, в которой мы продолжаем жить сегодня. При таком рассмотрении прошлое перестает быть тем, что случилось когда-то давно. Оно оказывается частью нашего настоящего, причем самой динамичной и неспокойной его частью, которая, собственно, и делает его историчным, то есть неравным самому себе. Другими словами, прошлое, перестав выступать объектом исторической реконструкции, превращается в событие, которому историк помогает раскрыться.
Рассуждая о природе исторического события, Чеканцева приводит слова Мишеля де Серто о мае 1968 года: «Событие — это не то, что мы можем увидеть или узнать, а то, чем оно становится (прежде всего для нас)» (курсив мой. — А. О.). Имея дело с событием, важно избежать его смешения с историческим фактом. Такая ошибка встречается еще очень часто. Ее провоцирует позитивистская методология, объясняющая происхождение настоящего из прошлого с помощью каузальных схем. Чуткость к событию проявляется в отказе от поиска причин, его якобы породивших, и внимании к тем возможностям, которые оно открывает сегодня. Если факты только подтверждают неизменность однажды установленного порядка вещей, то события его виртуализируют, демонстрируя возможность альтернативных порядков. Иначе говоря, события контингенты, а история в свете их контингентности, по мысли Чеканцевой, становится исследованием «нереализованных возможностей, незамеченных современниками, но неожиданно ставших важными для потомков». Она иллюстрирует эту мысль примерами из французской исторической культуры, которая, благодаря написанным еще в 1970-е годы работам Пьера Нора и Жоржа Дюби, сумела избавиться от пренебрежения к событию, характерного для классической школы «Анналов», и заново осознать его парадоксальную темпоральность. Как справедливо замечает автор, «за дискуссиями о событии скрывается не менее сложная в теоретическом плане проблема темпоральности будущего». Без попытки разобраться с ней, ставя под вопрос традиционные дихотомии прошлого и будущего, истории и памяти, факта и воображения, невозможно всерьез заниматься изучением революций, протестных и освободительных движений. Этой проблематике посвящен отдельный раздел в монографии, носящий красноречивое название «Французская революция XVIII века как событие будущего».
Но, пожалуй, самая интригующая и сложная проблема из тех, что ставятся в этой работе, связана с определением прагматики исторической деятельности. Как уже отмечалось, ее автор исходит из предположения, что историческая реальность немыслима без историков, которые ее создают. Они создают ее дискурсивно и перформативно, когда решают свои исследовательские задачи. Чеканцева предлагает смотреть на историографию как на своего рода социальную практику, которая не столько интерпретирует объективную действительность, сколько изменяет ее путем интеллектуальных интервенций. В этой связи встает вопрос об агентности представителей исторической профессии, или, если говорить словами Ницше, «о пользе и вреде истории для жизни». Еще какое-то время назад, он решался довольно просто. Достаточно было вспомнить, что профессиональная историография появилась на свет в XIX веке благодаря национальным государствам и мифу об исторической судьбе нации, который они насаждали. Однако в XXI веке такая историография утратила доверие. Поддерживающая ее «грандиозная историческая теология», по словам Чеканцевой, ушла в прошлое:
Что происходит сегодня с историей? Для чего она нужна? Кто такой историк? В чем смысл его профессиональной деятельности? Эти вопросы интенсивно обсуждаются не только в профессиональном сообществе, но и в социуме не одно десятилетие.
Дело осложняется еще и тем, что историки больше не являются монопольными производителями исторического знания. Сегодня этим также занимаются журналисты, политики, литераторы, юристы, государственные органы и общественные организации. Не потеряли ли историки в этой ситуации — которую Франсуа Артог называет «презентизмом» — собственную субъектность?
По мнению автора книги, главным преимуществом профессиональной историографии остается способность к критической саморефлексии. Ресурсы для восстановления ее субъектности нужно искать здесь — в новом осмыслении исторического познания, который Чеканцева называет «прагматической эпистемологией», или «эпистемологией историков». Ее ни в коем случае не нужно смешивать с традиционной прескриптивной методологией, отправляющей полицейские функции в отношении исторического мышления. Скорее речь идет о специфической рефлексии этой практики, которая предполагает ее собственную историзацию. Догадаться, какой могла бы быть такая рефлексия, позволяет, на взгляд Чеканцевой, следующее рассуждение Кшиштофа Помяна из его статьи 1970-х годов:
Сегодня мы нуждаемся в истории истории (курсив. — З. Ч.) которая сделала бы центром своих исследований взаимодействие между познанием, идеологиями, письмом, короче говоря, различные и дисгармоничные аспекты работы историка. Это такая история, которая смогла бы перекинуть мост между историей наук, историей философии и литературы, а возможно, и искусства. Точнее, между историей познания и историей различных способов его производства.
Иначе говоря, речь, по-видимому, идет об интеллектуально (если не сказать «спекулятивно») насыщенном историческом исследовании, которое направлено не на то, чтобы отражать «факты», содержащиеся в источниках, но на то, чтобы помогать историку находить себя в обширной сети коммуникаций, действующей как внутри, так и вне его профессионального поля и связывающей его со всеми, кому он обязан пониманием смысла своих занятий. Размышляя о примерах подобной рефлексии, автор с явным расположением говорит о французском философе Паскале Мишоне и его теории «ритмической индивидуации». Представляя своеобразный синтез идей Жильбера Симондона, Анри Лефевра и Мишеля Фуко, эта теория, с ее точки зрения, помогает уловить познающего индивида «в его текучести», демонстрируя определенные эвристические преимущества в условиях кризиса объяснительного потенциала науки последних тридцати лет. Трудно сказать, насколько справедлива интуиция Чеканцевой: хотя Мишон публикуется достаточно активно, его работы пока не вызвали заметной дискуссии в академической среде. Однако обращение к ним выглядит по-своему симптоматичным, поскольку дает повод задуматься о прагматике собственного научного поиска автора этой книги.
Многомерный и чрезвычайно богатый интеллектуальный ландшафт этой работы выстраивается на пересечении двух достаточно разных перспектив: более или менее традиционной историографии, описывающей изменения во времени и объясняющей их актуальный смысл, и философски нагруженной теории истории, которая учит сомневаться в однозначности этого смысла и искать ему альтернативы. О сохраняющемся влиянии первой перспективы можно судить по таким фразам:
«Более тесными стали отношения между историей и другими социальными и гуманитарными науками. Междисциплинарные исследования уже не только научная мода, но весьма результативный подход к решению исследовательской задачи. Явно уходит в прошлое недооценка связей с философией»; «Несмотря на известный консерватизм историографии, историки сделали немало для нового понимания исторического. В 1970–1990 гг., реагируя на вызовы лингвистического поворота, постструктурализма, постмодернизма и „искушений эпистемологии“, они переосмыслили базовые установки исторического знания, такие как историческая правда, объективность, причинность, источник, архив, беспристрастность исследователя».
Отсюда вырастает и программа эпистемологического эмпаурмента историка, обещающая ему заново осознать свою субъектность. Вторая же перспектива позволяет тематизировать все то множество вопросов, обсуждая которые, автор демонстрирует завидную смелость и тонкую интуицию: практическое (и прагматическое) измерение в занятии истории, нелинейная темпоральность события, его контингентность, прошлое, которое не уходит, но остается частью настоящего, историк как «место памяти» и много других, которые просто не поместились в эту рецензию. В современной теории истории обсуждение этих вопросов проходит уже без оглядки на профессиональную историографию и строится из предпосылки широкой доступности исторических знаний. Поэтому, на мой взгляд, исследование Зинаиды Алексеевны Чеканцевой представляет любопытный опыт совмещения этих двух заметно разошедшихся перспектив, который несомненно заинтересует вдумчивого читателя.