Рубина, Глюк, Брежнев и другие книги недели
9 книжных новинок, заслуживающих внимания
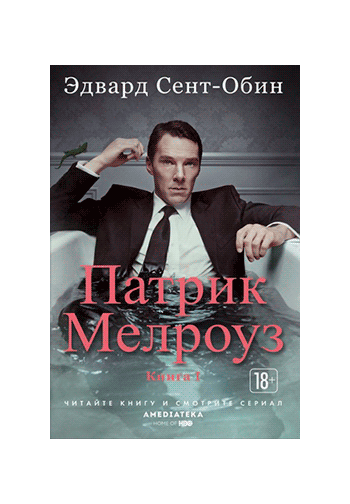 Эдвард Сент-Обин. Патрик Мелроуз. Книга 1. М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2018. Перевод с английского Аллы Ахмеровой, Екатерины Доброхотовой-Майковой, Александры Питчер
Эдвард Сент-Обин. Патрик Мелроуз. Книга 1. М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2018. Перевод с английского Аллы Ахмеровой, Екатерины Доброхотовой-Майковой, Александры Питчер
Юг Франции, роскошное поместье, где обитают английские аристократы: муж Дэвид, тиран, садист, подонок с отличным чувством стиля; жена Элинор, запуганная алкоголичка; их сын Патрик, хороший мальчик, которому родители доламывают остатки психики. К ним приходят гости: еще один аристократ, Николас, тоже сволочь, но без стиля и тупой; его юная любовница Бриджит, которая еще тупее его. Разговоры за столом бессмысленно-отвратительны. «За свою краткую врачебную карьеру, — скромно заметил Дэвид, — я уяснил, что пациенты всю жизнь представляют, будто вот-вот умрут. Единственным утешением для них становится то, что в один прекрасный день они оказываются правы. Только авторитет врача спасает их от непрерывной душевной пытки. Лишь таким образом обещания терапии сбываются». В следующей части книги мы видим последствия: сыну за двадцать, он наркоман и алкоголик, который не очень-то понимает зачем живет на белом свете. Самое грустное, что книга, видимо, автобиографическая: у Эдварда Сент-Обина был нехороший отец и нехорошие увлечения в юности.
 Дина Рубина. Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. М.: Эксмо, 2018
Дина Рубина. Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. М.: Эксмо, 2018
Во второй главе фигурирует довольно злобная пародия на Л. С. Петрушевскую (великая писательница, которая любит шляпки и петь), а одна из сквозных тем романа — взаимоотношения внутри «крупнейшего в России издательства». В остальном же перед нами неторопливо рассказываемая, снабженная яркими красками, большим количеством восклицательных знаков и уменьшительно-ласкательных имен сага о взаимоотношениях людей друг с другом и историей. Впрочем, текст распадается на бесконечные воспоминания о каких-то отдельных эпизодах простого человеческого счастья. «Захожу и вижу: да, шампанское, именно по шесть с полтиной. „Брют” стоял везде и не нужен был никому. Я одного мужика приметил с боль-боль-мень человеческим хайлом, подошел и попросил купить мне две бутылки, обещал по два рубля с каждой. Ты шутишь: портвешок „777” стоил тогда рупь семьсят, плюс чебурэк — это в целом где-то два рубля. Вот тебе и полноценная тайная вечеря».

Дженнифер Акерман. Эти гениальные птицы. М.: Альпина нон-фикшн, 2018. Перевод с английского И. Евстигнеевой, и Е. Симановского
Птицы не тупые. Они передают друг другу довольно сложную информацию при помощи системы звуков, запоминают человеческие лица, могут использовать инструменты для различных операций; наконец, способны выстраивать систему сложных социальных взаимоотношений внутри стаи. Конечно, одни птицы более способные, другие менее способные. Но их таланты восхищают. Вот как автор, известный американский научный журналист Дженнифер Акерман, описывает систему кодовых обозначений у синиц-гаичек. «Характерный синичий „чикади-ди-ди” сообщает о неподвижном хищнике, который сидит высоко на дереве и выслеживает добычу, например как североамериканская совка. Количество отрывистых „ди-ди-ди” указывает на размер зверя и, следовательно, на степень угрозы. Чем больше „ди”, тем меньше хищник и, следовательно, тем опаснее. Это может показаться нелогичным, но мелкие и проворные животные, способные отлично маневрировать, представляют собой гораздо бóльшую угрозу, чем крупные и неповоротливые. Поэтому воробьиный сыч может получить четыре „ди”, а виргинский филин — всего два».
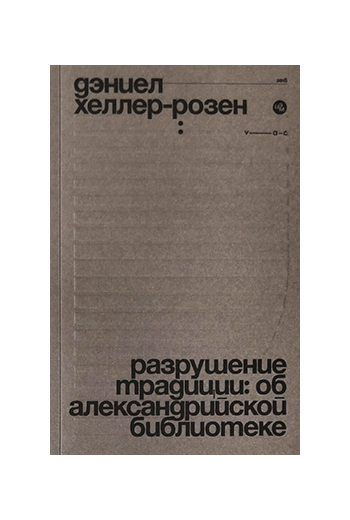
Дэниел Хеллер-Розен. Разрушение традиции: об Александрийской библиотеке. М.: ЦЭМ, V-A-C press, 2018. Перевод с английского Ивана Аксенова
В небольшой, но содержательной книжке профессора Принстонского университета Дэниела Хеллер-Розена реконструируется запутанная история самой известной библиотеки мира. При внимательном изучении источников выясняется, что дела с Александрийской библиотекой обстоят не так просто, как принято писать в энциклопедических статьях: далеко не все ясно и с ее устройством (например, она состояла из двух разных зданий), и с ее внешним видом (со времен Античности и Средних веков до нас не дошло ни одного ее изображения), и с ее гибелью (не исключено, что уничтожившего ее знаменитого пожара на самом деле не было). Не менее двусмысленна и роль библиотеки в культуре: с одной стороны, она действительно была книжной сокровищницей, но, с другой, бешеная гонка за увеличением фондов привела к систематической фальсификации текстов и, как следствие, разрушению классической традиции, на руинах которой возникла филология, наука о восстановлении заведомо испорченных и потому не поддающихся полному восстановлению текстов.
«Филологии, которая сегодня зачастую занимает в лучшем случае призрачное место среди исторических дисциплин, знакомо лишь одно понятие прошлого — прошлое, которое глубоко подозрительно, искажено и в конечном счете испорчено. Филология не могла бы возникнуть без разрушения традиции, поле текстуальной интерпретации, критики и исследования не появилось бы, не будь передача текстов уже искажена, затуманена и нарушена: непосредственность и прозрачность понимания не привели бы к созданию дисциплины, изучающей язык прошлого. Филология питается разрушением истории; она возвышается над могилой того, что она восстанавливает, и с некрофилическим энтузиазмом копается во всем, что стало непроницаемым и уже не может, как раньше, говорить само за себя».
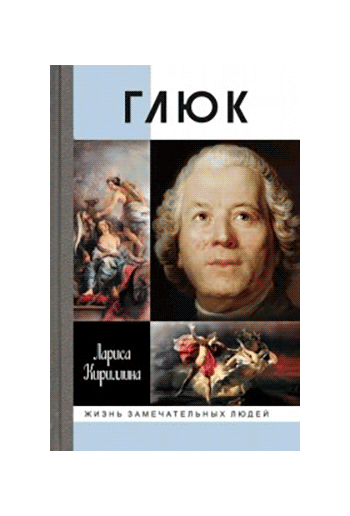
Лариса Кириллина. Глюк. М.: Молодая гвардия, 2018
Редкая птица: биография великого композитора, написанная серьезным музыковедом, — и очень хорошо написанная. Лариса Кириллина, доктор искусствоведения и профессор Московской консерватории, опубликовала немало сугубо научных трудов, но недавно ступила на научно-популярную стезю и уже успела выпустить в серии ЖЗЛ книги о Бетховене, Генделе и теперь еще Глюке. Биографии у нее получаются образцовые: они написаны легко, с большим пониманием предмета и без намека на беллетристичность. Автор не только доступным образом объясняет специальные вещи (много ли людей сегодня разбираются в опере, тем более старой?), но и прекрасно владеет историческим контекстом, а также по-настоящему любит своих героев, и поэтому портреты художников на фоне эпохи выходят у нее яркими и живыми. Жизнеописание Глюка (как, впрочем, и Генделя), по сути, первая в наших краях попытка дать целостное представление об авторе «Орфея» и последовательно описать все этапы его творчества. Кстати, в начале этого года «Горький» выпустил большое интервью с Ларисой Кириллиной: мы обсудили с ней две ее предыдущие жзловские книжки.
«Имя Глюка прославили в первую очередь оперы. Ему удалось не только сказать свое слово в этом весьма популярном тогда жанре, но и открыть новую страницу в его истории. Оперное искусство второй половины XVIII века делится на период до Глюка и после Глюка. Даже те современники, которые критически относились к его идеям, не могли их игнорировать, особенно после того, как в 1770-х годах реформа Глюка восторжествовала в Париже, где эту реформу называли не иначе как революцией».

Гершензон М. О., Гершензон М. Б. Переписка. 1895—1924. М.: Трутень, 2018
Небольшое издательство «Трутень», специализирующееся на книгах по библиографии, книговедению, истории литературы etc., выпустило большой том, в который вошла переписка Михаила Гершензона с его женой Марией. Гершензон — историк, исследователь русской общественной мысли первой половины XIX века, литератор и мыслитель, близкий к символистам, среди наиболее известных его книг можно назвать «Мудрость Пушкина», «Образы прошлого» и др. С постсоветских времен работы Гершензона регулярно переиздаются, но не менее интересно его обширное эпистолярное наследие, к которому сам корреспондент относился со всей серьезностью и очень им дорожил, поскольку в письмах отражалась вся его биография, история интеллектуального развития и так далее. В подготовленном Александром Соболевым собрании более пятисот писем, и, кроме подробностей жизни Гершензона и его супруги, они содержат много информации о литературной и философской жизни той эпохи и ее главных действующих лицах (Белого, Блока, Вячеслава Иванова, Сологуба и др.).
«Ал. Толстой третьего дня наговорил Ремизову гадостей: вы-де с Сологубом (а это были ближайшие его друзья) мещане, а я граф Т.; отныне моя дверь заперта для литераторов. — Я было хотел зайти к нему, он здесь рядом живет, но после таких слов не иду».
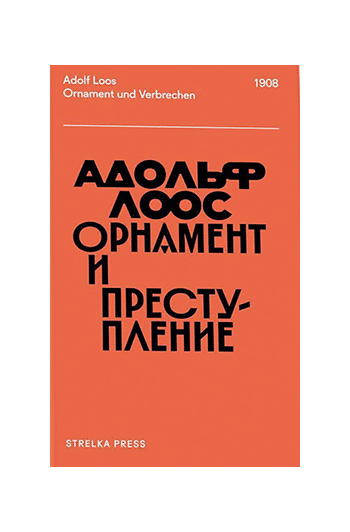
Адольф Лоос. Орнамент и преступление. М.: Strelka Press, 2018. Перевод с немецкого Эллы Венгеровой
Австрийский архитектор, пионер модернизма Адольф Лоос (1870–1933) терпеть не мог буржуазно-имперскую Вену, которую именовал не иначе как «потемкинской деревней». Столь нелестный эпитет столица Австро-Венгрии заслужила стараниями градостроителей, которые в угоду мещанским вкусам украшали дома фальшивыми фасадами «под барокко».
В своих лаконичных и крайне экспрессивных заметках Лоос громит признанные авторитеты и формулирует основные положения нового дизайна, соответствующего современности. Если изделие выполнено из железа, оно должно быть цвета железа, но никак не бронзы. Если здание построено не из кирпича, его ни в коем случае нельзя раскрашивать под кирпич. Малейшее отклонение от этих правил для Лооса преступление против искусства, а совершивший его ничем не отличается от убийцы или насильника.
Наработки, казавшиеся тогда откровенным нигилизмом (строительство некоторых домов Лооса доходило до разбирательств с полицией), позже легли в основу дизайнерской мысли ХХ века. Если бы не ярость, с которой архитектор прошелся по своей эпохе, мы бы сейчас жили и работали совсем в других домах.
«Если я хочу съесть пряник, то предпочитаю, чтобы он был гладким, а не в виде сердечка, или грудного младенца, или всадника на коне. И незачем сплошь покрывать его орнаментальным узором. Человек пятнадцатого столетия меня не понял бы. Но все современные люди отлично поймут. Поборники орнамента, преподаватели Школы прикладного искусства, полагают, что мое стремление к простоте равнозначно самобичеванию. Нет, уважаемый господин профессор, вовсе я не занимаюсь самобичеванием! Пряник без орнамента мне больше по вкусу».

Сюзанна Шаттенберг. Леонид Брежнев. Величие и трагедия человека и страны. М.: РОССПЭН, 2018. Перевод с немецкого В. А. Брун-Цехового
Леонид Ильич Брежнев у одних ассоциируется с застоем, бюрократией, эпохой, когда страна впала в безвременье. Для других брежневские годы стали редким периодом стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Третьи же знают генсека лишь как недалекого косноязычного героя бесчисленных анекдотов. Разумеется, в реальности фигура многолетнего лидера державы попросту не могла сводиться к этим простейшим плоскостям.
Как ни странно, книга немецкого историка Сюзанны Шаттенберг стала первой серьезной попыткой составить научную биографию Брежнева. Опираясь на редкие архивные источники, многие из которых были раскрыты совсем недавно, автор тщательно анализирует советского лидера и его окружение. Легко и информативно Шаттенберг рассказывает о жизненном пути Брежнева: от работы рядовым слесарем на заводе «Коммунар» и первых шагах по карьерной лестнице до его становления первым человеком в стране и создания гротескного культа личности.
Красной нитью через все повествование проходит образ матери Брежнева Натальи Денисовны. Шеттенберг прослеживает, как фантазии простой русской женщины о спокойной безбедной жизни в конечном счете стали официальной политикой партии, объявившей курс на «внимательное, заботливое отношение к человеку».
«Лучшей порой для Брежнева были, вероятно, годы пребывания на посту главы государства с 1960 г. Даже если это чистой воды предположение, фотографии того времени и все, что мы знаем о его прежних привязанностях, говорят о том, что эта деятельность нравилась ему больше всего: председательствовать, пожимать руки, ездить по миру и вручать ордена. Это было время, свободное от нужды, бедности, грязи, в нем не было плохой одежды или интриг, оно было близко, вероятно, мечтам, которые лелеяла его мать когда-то давно, еще в царской России: беззаботная жизнь в условиях скромного благосостояния».
Эдуардо Кон. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. Перевод с английского Александры Боровиковой
Американского антрополога Эдуардо Кона без натяжек можно назвать продолжателем дела Клода Леви-Стросса. Как и великий предшественник, ученый ищет ответы на глубинные вопросы о человеке и его месте в мире, обращаясь к культуре, быту и языку индейцев Южной Америки.
В центре внимания исследователя оказывается племя руна. Его представители еще не поражены вирусом западного антропоцентризма и в буквальном смысле понимают, как «мыслят» леса. В этой системе мира все живое мыслит, а всякая мысль живет. Работа Кона посвящена тому, как существа, которые мы привыкли называть неразумными или неодушевленными, самим своим присутствием в мире влияют на человеческую культуру.
Книга адресована в первую очередь тем, кто интересуется качественно новыми, альтернативными подходами к антропологии и этнографии.
«Принятие точки зрения другого существа размывает границы, отделяющие разные виды самостей. В своих взаимных попытках жить вместе и понимать друг друга, собаки и люди, например, постоянно участвуют в общем межвидовом габитусе, в котором отсутствуют привычные для нас различия между природой и культурой. В частности, иерархические отношения, объединяющие руна и собак, основываются как на использовании людьми собачьих форм социальной организации, так и на наследии колониальной истории Верхней Амазонии, связывающих людей в Авиле с миром светлокожих метисов за границами деревни.
Межвидовая коммуникация может быть опасной. С одной стороны, важно не допустить полного преобразования человеческой самости, чтобы не остаться собакой навсегда, а с другой — избежать монадической изоляции, которую репрезентирует <...> душевная слепота, солипсическая обратная сторона этого преобразования».