Россия и звери
Пять заметных книг недели по мнению «Горького»
Магия Русского Севера, Польша под властью Петербурга, путешествия по внутренней России, социология русского романа XIX века и любимые звери Жуандо. Иван Напреенко возобновляет обзор самых интересных новинок недели.
Магические практики севернорусских деревень: заговоры, обереги, лечебные ритуалы. Записки конца XX — начала XXI в. / Сост. С. Б. Адоньева, А. В. Степанов. 2 т. (Т. 1. Архангельская коллекция; Т. 2. Вологодская коллекция). СПб.: Пропповский центр, 2020
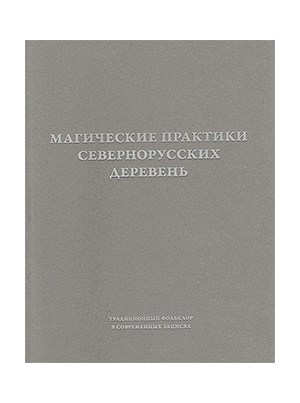 Известный фольклорист Светлана Адоньева совместно с коллегой Андреем Степановым подготовили два огромных, но удивительно легких — во всех смыслах — тома. Их можно смело брать с собой на необитаемый остров в составе короткого списка вещей первой необходимости.
Известный фольклорист Светлана Адоньева совместно с коллегой Андреем Степановым подготовили два огромных, но удивительно легких — во всех смыслах — тома. Их можно смело брать с собой на необитаемый остров в составе короткого списка вещей первой необходимости.
Издание «Пропповского центра», которым Адоньева заведует, содержит ровно то, что обещает название, — транскрипции заговоров, оберегов, описания ритуалов, собранных в этнографических экспедициях по Архангельщине и Вологодщине с конца 1970-х по наши дни. «На водворение новой скотины», «На ушную боль», «Земляной дедушка», «Этикет обращения с покойниками», «На подход к начальству», «Если ребенок не ходит» — в этих практически-ориентированных текстах и инструкциях отражается бесконечная человеческая озабоченность поддержанием символических порядков и границ между повседневными реальностями.
Эта озабоченность носит характер внутренней необходимости. Она не вполне привязана к быту, она пластична и способна переосмысливать давление среды. Так, например, советский запрет на иконы в красном углу избы преодолевается тем, что в сакральном месте возникают фотографий покойных родственников, а банный дух, изгнанный из бани стиральной машиной, может услышать, как его механической сменщице приносят ровно ту же благодарность, что приносили ему. При этом множественность реальностей (мир дома и мир леса, мир бани и мир хлева и т. п.) если и не осознается в полной мере информантами, то не составляет секрета для социологов, чьим концептуальным аппаратом составители активно пользуются.
Но, возможно, главное, заключается в том, что чтение этих записей — самоценное эстетическое и экзистенциальное удовольствие. Его можно сравнить с бесцельной и долгой прогулкой по русскому лесу, полуденным сном на заброшенном погосте, вслушиваньем в эхо у туманной реки. И, признаться, никаких концептуальных рамок, чтобы переживать этот опыт как основополагающий, живому человеку не требуется.
«Как слов не знаешь, в лес лучше не ходить. Мужик один подошел к избушке, а слов он не знает.
<А какие слова?>
„Хозяин да хозяюшка, пустите переночевать да ночь переспать”. Вот пришел. А ночью в лесу все зашумело, деревья-то до земли кланятся. Леший это. А из-за печки голос: „Тише-тише, человек здесь”. Это хозяюшка. И ребенок плачет. Это у нее ребеночек родился. И стихло все.
<А у хозяина семья, жена есть, дети?>
Есть и жена и дети.
<А какой хозяин?>
Так разы ж он покажется? Кошкой ли, собакой обернется, зверьком каким.
(ФА СПбГУ, Плес20-40. Зап. от женщины, 1901 г. р. в с. Конёво Конёвского с/c Плесецкого р-на Архангельской области 13.07. 1980 г. И. Бочаровой, Е. Яроцкой, А. Крюковой)».
Уильям М. Тодд III. Социология литературы: институты, идеология, нарратив. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. Перевод с английского А. Степанова, М. Кутеевой, Е. Канищевой и др.
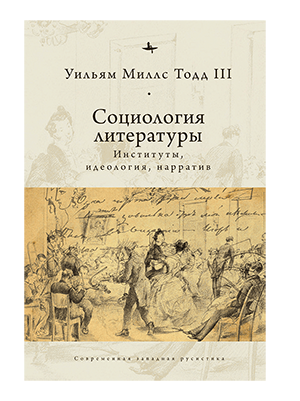 Уильям Тодд — крупный славист, литературовед-компаративист, специально для отечественного читателя собрал свои статьи, созданные за шестьдесят лет романа с русской литературой.
Уильям Тодд — крупный славист, литературовед-компаративист, специально для отечественного читателя собрал свои статьи, созданные за шестьдесят лет романа с русской литературой.
На 90 процентов этот сборник посвящен XIX веку — от Пушкина к Толстому. Оставшаяся доля уделена отечественной теории литературы после смерти Сталина. Гарвадский профессор прямо пишет, что его аналитическую оптику англо-американской Новой критики (пристальное чтение с целью нащупать внутренние связи текста) подвергли юстировке идеи Тартуской школы, Михаила Бахтина и Лидии Гинзбург.
Связующим звеном рассуждений Тодда служит цепочка концептов, вынесенных в заголовок. Под идеологией исследователь имеет в виду комплекс практик и ценностей, которые определяют «здравый смысл» эпохи и поведение отдельных субъектов в рамках этого комплекса. Так, идеология определяет, на кого ориентироваться как на «успешного писателя», какие идеи считать «прогрессивными» и т. п. Институты — устойчивые и «овнешненные» социальные обстоятельства: например, язык, власть, семья и т. д. Анализировать их в России XIX века интересно, поскольку они переживали трансформацию. Наконец, нарратив — это описание, которое связывает идеологию и институты, делает возможным рефлексию о них. Влиятельность «русского романа» обусловлена тем, что в нем звучит множество точек такой рефлексии.
Тодд пишет по-англосаксонски ясно и вместе тем насыщенно. Он, как и положено социологу, постоянно заземляет «таинственную творческую кухню», представляя ее продуктом и вместе с тем агентом влияния общественных процессов. Удивительно, но литература отнюдь не становится от этого менее великой. Наоборот, в сцепке с социальными фактами слово обретает принудительную силу этих самых фактов; вылетит — ловить не стоит, покалечить может.
«Большинство писателей оставались помещиками, чиновниками и офицерами, получая значительную часть дохода благодаря этим занятиям. Из первого поколения русских романистов, оставшихся в дальнейшем в культурной памяти, смелее и яснее других оспаривал аристократические предрассудки относительно писательского „ремесла” Александр Пушкин (1799–1837). Однако и ему, несмотря на ранний успех его байронических „южных поэм”, не удалось добиться финансовой независимости благодаря литературе; и он оставил после себя чудовищные долги. Роман в стихах „Евгений Онегин” принес Пушкину значительный, но все же недостаточный доход, а исторический роман „Капитанская дочка” (1836) дал совсем мало. Младшие современники Пушкина Михаил Лермонтов (1814–1841) и Николай Гоголь (1809–1852) сделали большой шаг вперед в профессионализации литературной деятельности, однако Лермонтову помогала его богатая родня, а Гоголю — семья, друзья и императорские субсидии. Писатели, получившие известность в середине столетия, получали более высокие гонорары, однако почти все они — за исключением Федора Достоевского (1821–1881), который рано ушел в отставку, а затем отдал свою долю отцовского имения за тысячу рублей, — почти все они не полагались исключительно на литературные доходы».
Фрагмент из сборника можно прочесть на «Горьком».
Мальте Рольф. Польские земли под властью Петербурга: oт Венского конгресса до Первой мировой. М.: Новое литературное обозрение, 2020. Перевод с немецкого К. Левинсона
 До недавнего времени из всех стран-соседей России Польша можно было считать самой, скажем так, критически настроенной к РФ (если не брать в расчет Прибалтику). Профессор Ольденбургского университета Мальте Рольф напоминает, что корни нелюбви уходят гораздо глубже пакта Молотова — Риббентропа.
До недавнего времени из всех стран-соседей России Польша можно было считать самой, скажем так, критически настроенной к РФ (если не брать в расчет Прибалтику). Профессор Ольденбургского университета Мальте Рольф напоминает, что корни нелюбви уходят гораздо глубже пакта Молотова — Риббентропа.
Основную часть огромного исследования немецкий историк уделяют описанию того, как сосуществовали петербургские власти и польское население после Январского восстания 1863 года вплоть до 1915-го. Первый раздел книги расширяет временные рамки до 1772 года, когда Российская империя первый раз поделила земли Речи Посполитой на троих с Австрией и Пруссией.
Рольф детально перебирает особенности господства над уникальной провинцией, которая после восстания лишилась самоуправления, превратившись из Царства Польского в бесправный Привислинский край. Как показывает историк, отношения между центром, «сдавливающей грудь Азией», и периферией не сводились к прямому угнетению; взаимодействие складывалось комплексное. По сути представители «разинутой пасти волжской степи» и их польские и еврейские контрагенты реализовали своеобразную модель сообщества в конфликте; и этот конфликт характеризовался не только взаимозависимостью оппонентов, но и общей повесткой проблем. Так возникали неожиданные точки сотрудничества — например, модернизация Варшавы на рубеже веков.
В результате после революционных событий 1905–1906 годов имперскому управлению удалось выстоять, несмотря на крепнущий и политически эффективный польский национализм, и даже «обеспечить долговременное замирение» — в условиях диковинного и болезненного симбиоза. По итогам автор делает, возможно, не слишком приятный для полонофилов вывод, что коллапс российского владычества был вызван не столько внутренним давлением, сколько внешними причинами — неудачами царской армии на фронтах Первой мировой.
«Царство Польское традиционно использовалось в качестве „опытного поля” для реформ и мероприятий, которые власти сначала испытывали на имперской периферии, прежде чем внедрять их в центре. Так, хотя Александр I открыто и не заявлял, что польская Конституция 1815 года является пробой или репетицией введения конституции во всей империи, у общественности того времени на сей счет не возникало сомнений. Польские восстания 1830–1831 и, особенно, 1863–1864 годов вынудили Петербург не только перенастроить свою политику в отношении Польши, но и кардинально пересмотреть свои концепции имперской интеграции и соответствующие практики властвования на всех окраинах империи. Как и в других колониальных державах Европы, на периферии генерировались те представления об имперской структуре и соответствующих техниках господства, которые в конечном счете оказывали влияние и на имперский центр».
Марсель Жуандо. Новый бестиарий. Тверь: Kolonna Publications, 2020. Перевод с французского Татьяны Источниковой
 Дмитрий Волчек продолжает закрывать пробелы в переводах на русский язык книг Марселя Жуандо — антисемита, ревностного католика, замечательного литератора и хозяина петуха, про которого писал старший из братьев Юнгеров.
Дмитрий Волчек продолжает закрывать пробелы в переводах на русский язык книг Марселя Жуандо — антисемита, ревностного католика, замечательного литератора и хозяина петуха, про которого писал старший из братьев Юнгеров.
«Новый бестиарий», вышедший в оригинале в 1952 году, посвящен писателю и участнику Сопротивления Жану Полану, которого жена Жуандо выдала гестапо как еврея. По счастью, автор успел предупредить товарища об экстравагантной выходке супруги прежде, чем стало поздно, и изрек по этому поводу афористичную фразу, коими также известен: «То, что я больше всего на свете люблю, донесла на то, что я больше всего на свете люблю».
«Новый бестиарий» — не столько о способности людей на зверское, сколько о том, как зверям свойственна человечность. Сборник, входящий в послевоенный цикл Жуандо книг о животных, состоит из трогательных (на грани того, что умильность становится настораживающей) коротких историй о собаках, кошках, голубях, гусях, черепахах и прочих «братьях меньших».
Жуандо неизменно обнаруживает в них немых «замаскированных людей», способных на любовь и понимание «без недомолвок». Собственно, и пишет о них так, что не сразу понять, речь о курице или любовнице, словно бы текст трансцендирует «неумолимые границы природы».
«Сегодня утром, едва расцвело, я вывел весь наш птичник пастись на лужайке. Ах, Жан, ты бы видел эту картину! Петух, вылетевший впереди всех, встречал каждую из кур сначала страстным поцелуем, потом, почти без перехода, — энергичным тумаком. Согласно законам симпатии и антипатии, не имеющим ничего общего с любовью, чем более или менее пылким оказывался поцелуй, тем сильнее или слабее был следующий за ним тумак — но всегда они были равны по силе, хотя и с противоположным знаком».
Фрагмент книги размышлений Жуандо о животных, которая вышла на русском языке первой, можно прочитать здесь.
Михаил Бару. Непечатные пряники. М.: Новое литературное обозрение, 2020
 Литератор и химик Михаил Бару занят безусловно хорошим делом: путешествует по малым городам России и пишет об этом эссе, которые публикуются в саратовском журнале «Волга-XXI век». В опубликованный НЛО сборник вошли отчеты о путешествиях по закоулкам семи областей — от Московской до Костромской, от Лукоянова до Старицы.
Литератор и химик Михаил Бару занят безусловно хорошим делом: путешествует по малым городам России и пишет об этом эссе, которые публикуются в саратовском журнале «Волга-XXI век». В опубликованный НЛО сборник вошли отчеты о путешествиях по закоулкам семи областей — от Московской до Костромской, от Лукоянова до Старицы.
«Пряники» хороши в качестве руководства к действию. Как человек, увлеченный тем же, полностью соглашусь с автором, что «перед поездкой нужно иметь уверенность как минимум в двух вещах — ночлеге и культурной программе». С ночлегом понятно, а вот без культурной программы рассмотреть сквозь гадательное стекло русской глубинки нечто, кроме следов экзистенциального и бытового крушения, бывает непросто. Если же дозвониться до местного музея, взять в языки краеведа, накопать в литературу по теме, то мамлеевская ряска расступится и себя обнаружит прихотливый ландшафт прошлого, позволяющий видеть незаметные прежде детали в настоящем.
«Пряники» — на любителя, если брать стиль: панибратская интонация, не самый изящный юмор, не самые удачные концовки, но за библиографический список к каждой зарисовке автору стоит сказать большое спасибо. По меньшей мере в качестве (вспомогательного?) путеводительного средства эта книга работает вполне, а пойди найди толковый путеводитель по Балахне или Грязовцу.
«Сначала на месте Осташкова ничего не было, кроме лесов, болот и озера Селигер с многочисленными островами и каменными валунами на них. Потом по этим местам прошла... Не знаю, как и сказать... Короче говоря — возле входа в Осташковский краеведческий музей лежит большой гранитный валун, а на валуне самый настоящий отпечаток женской ноги. Или отпечаток, очень похожий на отпечаток женской ноги. Глубокий. В такой можно влить бокал шампанского. Даже два. Местное предание, однако, утверждает, что это след Богородицы. Так-то с шампанским лучше не стоит».