Революция в лженауке
«Месмеризм и конец эпохи Просвещения» Роберта Дарнтона
На закате эпохи Просвещения настоящей сенсацией стала теория Месмера о животном магнетизме. Правда, ни сам автор антинаучной концепции, ни его последователи даже в самых смелых своих фантазиях не могли представить, насколько месмеризм изменит мир. Алеша Рогожин — о книге Роберта Дарнтона, посвященной тому, как одна сомнительная идея подорвала привычный уклад Европы.
Роберт Дарнтон. Месмеризм и конец эпохи Просвещения во Франции. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Перевод с английского Н. и В. Михайлиных; перевод с французского Е. Кузьмишина. Содержание
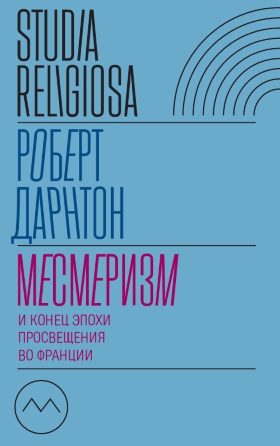 Представление, будто тектонические сдвиги в структуре общества обусловлены подрывной деятельностью эзотерических кружков, часто транслируется сторонниками конспирологических теорий и желтыми газетчиками. Но и вульгарно-рационалистические объяснительные модели общественных — в том числе революционных — процессов, размещающиеся строго в политико-социальной плоскости и отождествляющие намерения участников событий с результатами этих событий, давно подвергаются атакам историков.
Представление, будто тектонические сдвиги в структуре общества обусловлены подрывной деятельностью эзотерических кружков, часто транслируется сторонниками конспирологических теорий и желтыми газетчиками. Но и вульгарно-рационалистические объяснительные модели общественных — в том числе революционных — процессов, размещающиеся строго в политико-социальной плоскости и отождествляющие намерения участников событий с результатами этих событий, давно подвергаются атакам историков.
В этом русле написана и книга Роберта Дарнтона, посвященная политической истории месмеризма — полузабытого спиритуалистического учения, казалось бы, бесконечно далекого от идей суверенитета народа и прав человека, которые ассоциируются у нас с Великой французской революцией. Автор «Месмеризма и конца эпохи Просвещения во Франции» полагает, что именно это когда-то модное поветрие сыграло одну из ключевых ролей в становлении революционного сознания французов конца XVIII века, невольно создав своего рода институциональный и идеологический плацдарм для борьбы с королевской властью; и уже потом, после кристаллизации в общественном сознании собственно политических идеологий, оно превратилось в свою противоположность и стало тем эзотерическим учением, каким представляется сейчас в массовой культуре. Чтобы объяснить двойное превращение паранауки в политическую доктрину, а затем в целую россыпь оккультных практик, Дарнтон обращается к интеллектуальному и политическому контекстам, давшим жизнь месмеризму и обусловившим его трансформацию.
В первую очередь Дарнтон обращает внимание на то, что идея «животного магнетизма», таинственной силы, управляющей всем происходящим, но подчиняющейся человеческой воле, вовсе не была паранаучной для XVIII века. Напротив, в зените эпохи Просвещения мысль о том, что всю мировую материю пронизывает некий невидимый флюид, в свою очередь имеющий нематериальную природу и потому связывающий материю и дух, была вполне мейнстримной и разделялась самыми солидными естественниками и эмпириками. Можно сказать — особенно ими, потому что естественно-научные открытия и технические изобретения падали в это время гроздьями, оглушая всех любопытствующих и рассыпаясь в разные стороны — связи между вновь обнаруженными закономерностями установить не удавалось. Но нужда в таковых была, и это открывало простор для фантазии — особой среды, где странствующие алхимики выглядели ничуть не менее убедительно, чем основатели современной химии, потому что двигались примерно по той же траектории: от самых мелких причинных связей непосредственно ко всеобщим законам мироздания. И открывавшиеся химические элементы все еще шли под рубрикой стихий из древнегреческой натурфилософии.
Кроме того, 1780-е годы были во Франции десятилетием массового научного энтузиазма, причем «массовость» здесь следует понимать буквально. Аристократы стремились в академии, буржуа обращались к популярным журналам и лекциям, и даже неграмотные могли причаститься науке, наблюдая полеты воздушного шара. Разумеется, любителям, пылавшим не меньшим научным энтузиазмом, чем те, кто имел возможность стать профессионалом, были не очень по душе существовавшие в институциях сословные ограничения. Препятствия, на самом деле или мнимо чинимые незнатным, но амбициозным ученым официальными научными учреждениями, вовлекли в политическую борьбу и одного из самых известных деятелей Революции — Жан-Поля Марата:
«Поначалу академики отнеслись к трудам Марата более благосклонно, чем незадолго до того — к опусам Месмера, однако, по мере того, как научные теории Марата становились все фантастичнее, а его выпады в адрес Ньютона — все язвительнее, они постепенно отвернулись от него. К тому моменту, когда Академия наук ополчилась на Месмера в 1784 году, Марат убедил себя в том, что и сам подвергается гонениям с ее стороны. Он всерьез полагал, что философы-ньютонианцы и их власть имущие приспешники злоумышляют против него по всей Франции, что они изымают его книги из продажи, препятствуют публикации его сочинений в газетах и журналах и даже составляют против него тайные заговоры на собраниях медицинского факультета (наподобие тех, что замышлялись с целью нисповержения месмеровой доктрины). Именно желание отомстить Академии наук подтолкнуло его к революционной деятельности».
Уникальность положения месмеризма в том, что, с одной стороны, будучи учением очень популярным и вполне наукоподобным по понятиям того времени, а с другой — отвергнутым официальными научными институциями, он приобрел ореол невинной жертвы королевской деспотии. В этом статусе месмеризм вступил в длительную схватку с органами публичной власти — и, благодаря видимости чисто научного характера этой полемики, она некоторое время не обращала на себя внимание цензуры. Этот процесс, в свою очередь, произвел два критически важных для последующих событий эффекта: он политизировал науку, ревнители которой выдвинули требование сословного равенства, пусть и в пределах одной области, и привлек к себе политических радикалов, которые прежде не находили пространства, где можно было бы публично разворачивать борьбу против абсолютистского режима. Эти радикалы — например, Николя Бергасс и Жак-Пьер Бриссо — принялись распространять свои изложения месмеристской теории, изначальная туманность и эклектичность которой позволила без особых противоречий вложить в нее учение (совершенно безразличное самому Месмеру) об общественном договоре и превосходстве формального права над сословными привилегиями.
Этот пункт — один из важнейших в книге Дарнтона. Рассказывая о массовом научном энтузиазме тех лет, он не раз повторяет: политические труды, которые мы сейчас считаем предтечей Французской революции, в то время читали немногие, а внимание всех остальных было приковано к природе электричества, воздухоплаванию и лейденским банкам. Для того чтобы овладеть массами и стать материальной силой, идея сословного равенства должны была быть изложена на языке науки, общем для механики и теологии. Именно этим переложением занимались многие из лидеров революционного движения первых лет Революции, пока буржуазия, нуждавшаяся в звездных одеяниях для своих земных амбиций, еще не удовлетворила свои требования, а более радикальное крыло революционеров еще не получило возможности формулировать свои идеи ясно и декларировать их громко. Поэтому Жиронда была намного более месмеристской, чем Гора.
И поэтому после окончательного заката эпохи Просвещения месмеризм, не потеряв популярности, коренным образом меняет свое политическое содержание. Сперва им увлекается, например, один из отцов консерватизма Жозеф де Местр, затем — французские писатели-романтики. С другой стороны, под его влиянием находился и предтеча коммунизма Шарль Фурье. Содержание первоначального месмеризма было столь размыто, что под него, в зависимости от обстоятельств, можно было подогнать что угодно; роль же его заключается в том, что он создал прецедент политической борьбы и таким образом стал проводником для, как выразились бы современные политические теоретики Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф, пустого означающего, то есть площадкой, где различные требования соединяются в едином революционном порыве: «сословное деление должно быть упразднено». Как только этот порыв только наметился, он оказался куда шире борьбы за власть в академии, и уже в 1790-х годах легальный статус месмеризма мало кого волновал. Добавим к этому, что когда он развернулся в полную силу, то и самое общее требование оказалось недостаточным. Потому что действительный предмет общественного конфликта, конечно, заключался не только в правовом статусе гражданина, не только в «означающем», а включал и материальное неравенство, рвущее любые дискурсивные рамки.
«Месмеристское движение не умерло вместе со Старым режимом, но Революция расколола его, и философы девятнадцатого столетия с готовностью растащили осколки по своим собственным системам. Чистых месмеристов образца 1780 года в XIX веке почти не осталось. <...> Религиозный мистицизм дал этим философам доступ к неисчерпаемым источникам иррационального, поскольку сам он, подобно подземной реке, пронизывал весь восемнадцатый век — от конвульсионеров до месмеристов. Вырвавшись на поверхность после 1789 года, он впитал в себя сведенборгианство, мартинизм, розенкрейцерство, алхимию, физиогномику и множество других спиритуалистских токов; но месмеризм был одним из самых мощных».
Предложенное Дарнтоном объяснение революционных процессов во Франции конца XVIII века, конечно, имеет свои ограничения. У человека, взявшего эту книгу в руки, может создаться впечатление, что автор намеревается выделить конкретные заслуги месмеризма из совокупности факторов, создавших революционную ситуацию или хотя бы оценить его удельный вес. Но фактически Дарнтон лишь показывает на множестве источников, что в целом культура политических памфлетов своим развитием обязана полемике научных журналов, что заметный пласт политических убеждений того времени был дистиллирован из мистических учений вроде месмеризма. Но можно ли сейчас обнаружить запасные, не пригодившиеся пространства для политической полемики или какова была примерная доля симпатизантов эзотерики среди революционеров — это остается загадкой.
В «Месмеризме и конце эпохи Просвещения» почти все внимание уделено тем, кто активно интересовался месмеризмом или критиковал его, а это далеко не всегда фигуры из первых рядов; не ясно, составляли ли те и другие, хотя бы вместе взятые, значительную часть участников революционных событий. Что думали о месмеризме Наполеон или Робеспьер, их сторонники и противники, — об этом Дарнтон умалчивает. Наконец, воспринималась ли сама Революция сколько-нибудь большим числом людей в мистических категориях, когда стало возможным открыто обсуждать, например, Сийеса — этого мы также не узнаем. Затеянные месмеристами дискуссии между журналами и академией, а затем — между парламентом и правительством, определенно предоставили революционерам трибуну. Но подсказали ли они им слова? Едва ли возможно отнести к недостаткам труда Дарнтона то, что он достаточно осторожен в выводах, чтобы не отвечать на эти вопросы.