Рецензенты, редакторы и просто друзья
Цензоры хорошие и плохие
Дарнтон Р. Цензоры за работой. Как государство формирует литературу / Пер. с англ. М. Солнцевой. М.: Новое литературное обозрение, 2017
У книги Роберта Дарнтона, исследователя французской книжной культуры XVIII века, прекрасное, «говорящее» оформление: на переплете вычеркнутые густой черной краской строки, а на форзаце — много-много маленьких ножниц. Однако реальное содержание книги Дарнтона гораздо сложнее, чем стереотипное представление о цензуре как о той инстанции, которая только и делает, что зачеркивает и вырезает. Дарнтон избегает публицистического разговора о цензуре, когда она в любом национальном и временном контексте воспринимается только как покушение на свободу слова и абсолютное зло. Этому методу он противопоставляет другой, который называет антропологическим, или этнографическим. Он изучает цензуру не как абсолютную категорию, а как явление, всякий раз зависящее от конкретного исторического и национального контекста. Таких контекстов Дарнтон в книге разбирает три: французский XVIII века, англо-индийский второй половины XIX — начала XX века и восточно-германский 1960–1980-х годов. И всякий раз как объекты цензуры, так и способы, к которым она прибегает, оказываются разными.
Цель французских цензоров XVIII века состояла в том, чтобы определить, достойна ли данная книга выдачи ей королевской «привилегии», то есть дарования королем автору эсклюзивного права печатать и продавать свое произведение через посредников из гильдии книготорговцев. Цензоры при этом оценивали не только и не столько политическую благонадежность книги, сколько стиль, увлекательность рассказа, оригинальность мыслей — словом, они выступали в роли рецензентов, причем, если книга удостаивалась положительного отзыва (называвшегося апробацией, или одобрением), этот отзыв, подчас очень развернутый и подробный, публиковался перед текстом за подписью цензора. Французская система была довольно гибкой. Для тех книг, которые признавались недостойными официальной апробации, существовали другие формы разрешения: «молчаливое согласие», «допущение», «простое согласие», «согласие полиции». Но если какая-нибудь из этих книг вызывала скандал, ее изымали с рынка с помощью полиции.
Казалось бы, у королевских цензоров должны были вызывать подозрения прежде всего труды философов-просветителей. Но Дарнтон показывает, что дело обстояло не совсем так. Во-первых, цензорам зачастую просто недоставало подготовки, чтобы понять философские трактаты (гораздо большую настороженность вызывали у них сочинения религиозные); а во-вторых, «сомнительные» философские труды вообще не попадали в цензуру: авторы сразу посылали их в Амстердам или Женеву, а оттуда издания тайными путями доставлялись во Францию. Впрочем, порой подобные сочинения все-таки поступали в цензуру и их авторы даже ухитрялись получить цензорское одобрение (по недосмотру или по протекции), что кончалось большим скандалом, изъятием тиража и даже сожжением книг: такая судьба постигла, в частности, атеистический трактат Гельвеция «Об уме» и первые тома Энциклопедии Дидро и Даламбера. Кстати, о том, что думал относительно состояния книжной торговли и цензуры во Франции сам Дени Дидро, можно узнать из недавно выпущенного издательством Grundrisse его «Письма о книжной торговле», которое предваряет умная и содержательная статья Н. Плавинской.
Но вообще-то цензоров и полицию волновали не только и не столько труды просветителей, сколько совсем другие издания — порнографические книги и романы «с ключом», то есть такие, где реальные лица, вплоть до коронованных особ, были выведены под вымышленными именами в весьма неприглядном свете, а их истинные имена раскрыты в прилагаемом «ключе». Цензоры гораздо больше боялись намеков на двор, чем вольнодумства и безбожия. И в охоте за такими изданиями книжная цензура превращалась в книжную полицию: полицейские инспекторы, специализировавшиеся на книжной торговле, выслеживали подпольные хранилища «плохих книг», изымали их тиражи, а изготовителей и распространителей задерживали, допрашивали, осуждали на тюремное заключение. Правда, они старались действовать согласно определенной законной процедуре, ловили арестованных торговцев и/или сочинителей на лжи, припирали к стенке и заставляли признаться в сочинении безнравственной литературы. Но тем не менее в этот момент цензоры из внимательных рецензентов превращались в представителей карательной системы.
Для Дарнтона это рассмотрение полицейских операций в книге о цензуре — момент принципиальный. «Если ограничить изучение цензуры только цензорами, мы узнаем лишь половину истории. Другая половина касается, репрессий, осуществляемых полицией». И потому под цензурой в широком смысле слова Дарнтон понимает вообще всяческие «государственные санкции, касающиеся книг».
Эти самые санкции широко применяло и британское правительство по отношению к бенгальской литературе в Индии. Британцы были очень озабочены соблюдением принципа свободы слова. Но ничуть не меньше их тревожили опасности, какими грозила «подрывная» бенгальская литература общественному спокойствию. И потому, тщательно соблюдая все судебные процедуры, британские судьи осуждали на тюремное заключение тех авторов, в сочинениях которых усматривали «недовольство», «нелояльность» и «разжигание ненависти между разными классами подданных Ее Величества». Причем для того чтобы все это усмотреть, требовались недюжинные филологические и даже, как выражается Дарнтон, герменевтические способности. «На суде обсуждалось все, чего можно ожидать от современного занятия по изучению поэзии, — филология, семантические поля, значения метафор, идеологический контекст, реакция читателя и интерпретирующее сообщество»; судья присутствовал при «открытой герменевтической дискуссии» между адвокатом и обвинителем. В результате, читая в переводе одной из песен слова «О, бог с головой слона и кривым ртом. Движением своего нежного хобота передай ариям знамя преданности своей стране», судья ставил эти на первый взгляд невинные слова в актуальный контекст, и тогда обнаруживалось, что Ганешу, бога со слоновьей головой, особенно почитает глава националистов Тилак, а значит, автор этой песни заслуживает семилетней ссылки. И вновь, как и во Франции XVIII века, цензура от надзора переходила к наказанию: вначале британские чиновники составляли каталоги изданных в Бенгалии книг с собственными пространными комментариями об их содержании и стиле, а на следующем этапе оказалось, что комментариев недостаточно и нужно переходить к репрессиям — впрочем, исключительно на основании закона (куда предварительно ввели соответствующие статьи и пункты).
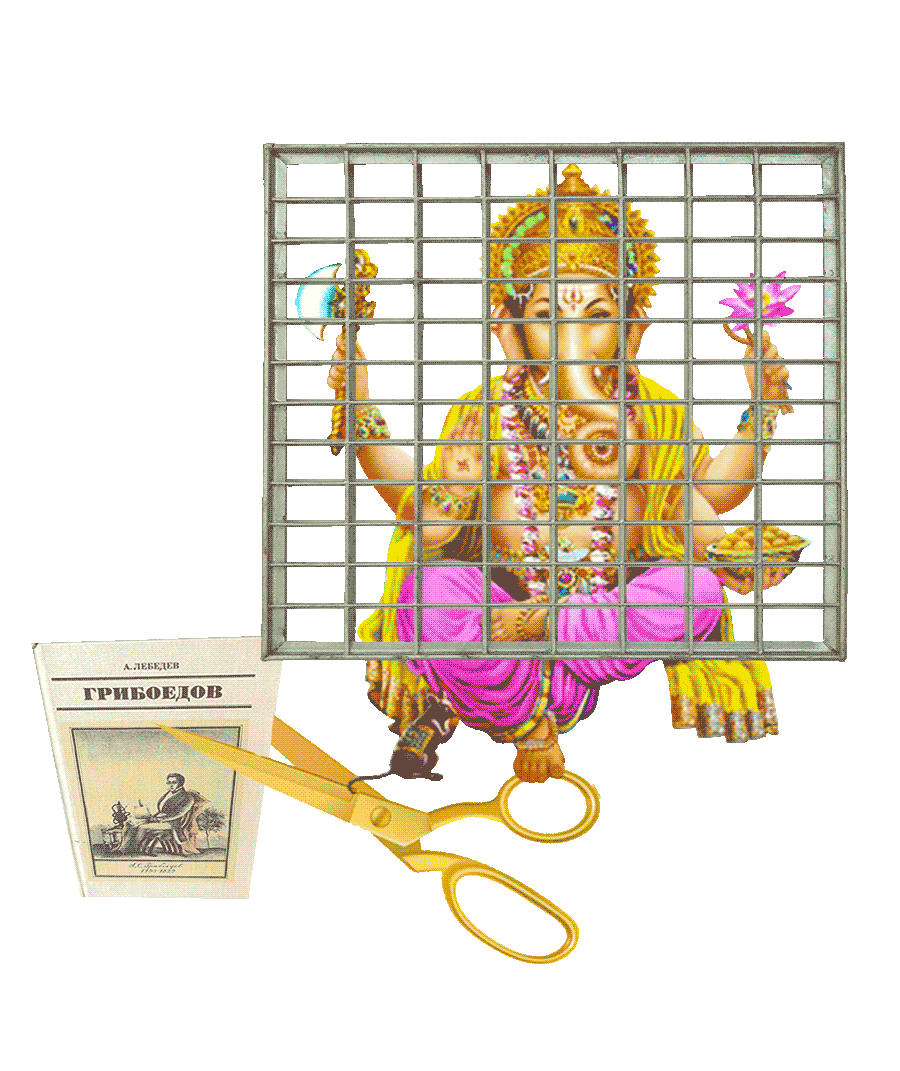 И наконец, третья глава — функционирование цензуры в ГДР. Здесь для американца Дарнтона открывается поле для исследования, кажущееся ему едва ли не более экзотическим, чем мир парижской книжной полиции XVIII века, который он изучал всю жизнь. Третью часть он начинает торжественным зачином — рассказом о том, как 8 июля 1990 года, через семь месяцев после падения Берлинской стены, он оказался в кабинете восточно-германских цензоров: «Я едва мог поверить в случившееся. После долгих лет изучения цензуры в далеких странах и прошедших эпохах я должен был встретиться с двумя живыми цензорами, которые согласились поговорить со мной». Но, конечно, Дарнтон как настоящий ученый не стал основывать свои выводы только на том, что рассказали ему «два живых цензора»; он, как и в других случаях, провел большую работу в архивах.
И наконец, третья глава — функционирование цензуры в ГДР. Здесь для американца Дарнтона открывается поле для исследования, кажущееся ему едва ли не более экзотическим, чем мир парижской книжной полиции XVIII века, который он изучал всю жизнь. Третью часть он начинает торжественным зачином — рассказом о том, как 8 июля 1990 года, через семь месяцев после падения Берлинской стены, он оказался в кабинете восточно-германских цензоров: «Я едва мог поверить в случившееся. После долгих лет изучения цензуры в далеких странах и прошедших эпохах я должен был встретиться с двумя живыми цензорами, которые согласились поговорить со мной». Но, конечно, Дарнтон как настоящий ученый не стал основывать свои выводы только на том, что рассказали ему «два живых цензора»; он, как и в других случаях, провел большую работу в архивах.
Впрочем, тот, кто был как-либо причастен к литературной и книгоиздательской деятельности при советской власти или читал книги по истории советской цензуры (назову хотя бы подробнейшую работу: Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917–1991. М.: РОССПЭН, 2002), ничего удивительного или особенно нового здесь не найдет. Виды все известные. Прежде всего стыдливость, с которой цензоры маскировали свою деятельность: цензурное ведомство в ГДР официально называлось Главной администрацией печати и торговли книгами, а в СССР — Главлитом. Литературой, как и СССР, «управляли» сразу несколько инстанций: помимо цензоров это было министерство культуры и отдел культуры ЦК, которые «бдили» каждый со своей стороны, и их соперничество позволяло авторам лавировать и апеллировать то к тому, то к другому. И многое другое нам тоже хорошо знакомо. Ровно как и ситуация, в которой писатели должны подавать члену Политбюро, ответственному за идеологию, запросы на визы для выезда за границу, покупку автомобилей и улучшение жилищных условий. А также «перспективное» планирование книг, которые предстоит выпустить в следующем году: цензура начиналась уже на этапе включения тех или иных книг в этот план. А также многоступенчатая «торговля» авторов с редакторами и цензорами за изменение тех или иных «крамольных» пассажей ради выхода книги в более безопасном виде. А также присутствие в мозгу большинства литераторов «внутреннего цензора», которого одни немцы называли «маленьким зеленым человечком в ухе», а другие — «ножницами в голове» (те самые ножницы, которые «материализовались» на форзаце русского издания). И своя «герменевтика», ничуть не менее проницательная, чем у индийских британцев; ею занимались не только цензоры, но даже и корректоры: когда наборщик сознательно или по ошибке изменил в стихотворении о природе слова «повернуты к гнезду» на слова «повернуты к западу» (по-немецки эти слова различаются лишь одной буквой), корректор «почуяв неладное, решил прикрыть себя, заменив это на „повернуты к востоку”». Тем более глубокими «герменевтами» были цензоры, которые «не только обращали внимание на все нюансы скрытого смысла, но и учитывали то, как напечатанный текст повлияет на общество».
Дарнтон описывает все это примерно так же, как европейский исследователь описывает нравы индейцев с берегов Амазонки; ему все это внове. А нам, авторам с советским опытом, — привычно. Тема цензуры неизбежно провоцирует на мемуарные отступления; я всячески удерживалась от соблазна, но все-таки не могу не рассказать правдивую историю из жизни московского издательства «Искусство» в начале 1980-х годов. В «Библиотечке художественной самодеятельности» переиздавали «Горе от ума». Цензор, ведавший издательством, был по совместительству мужем редакторши из редакции эстрады и художественной самодеятельности. А редакторша была политически грамотная и знала о натянутых отношениях между Советским Союзом и Китаем. И, прочтя в пьесе Грибоедова пассаж про китайцев, которым нам следует подражать, засомневалась: будет ли уместным тиражировать такие сомнительные речи? То есть проявила недюжинные герменевтические способности. И за семейным ужином спросила совета на этот счет у мужа-цензора. Супруги поразмыслили и решили не рисковать. А рифмовка у Грибоедова в этом месте как на зло такая, что пришлось выкинуть целых шесть строк:
Ах! если рождены мы все перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев.
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.
Так пьеса и была печатана. И, как сказала по другому поводу Анна Ахматова, «никакой неловкости не произошло».
Впрочем, все три части книги Дарнтона убеждают, что должность цензора нигде не сводилась к простому умению вычеркивать из книг сомнительные места. Французские цензоры — вдобавок еще и рецензенты, британские — еще и филологи, восточно-германские — еще и редакторы. И все как один — «герменевты», умеющие читать между строк и разгадывать не только то, что написано в книге, но и то, что может в ней усмотреть публика.
И все, или почти все, в той или иной степени, как убеждает Дарнтон, помощники авторов, способствующие выходу их книг в свет — разумеется, за счет более или менее серьезных компромиссов. Дарнтон показывает, как важен на всех этапах работы цензуры человеческий фактор, «мир человеческих взаимодействий, смягчающих жесткость цензуры как прямого выражения воли государства». Уже во французском XVIII веке Дарнтон замечает и описывает хорошую знакомую нам ситуацию, исчерпывающе выражаемую пословицей «рука руку моет»: то, что невозможно по закону, возможно по знакомству, по «блату» (хотя подданные Людовика XV этого слова, конечно, не знали): «Когда влиятельный адвокат по имени Обер попросил поспособствовать выходу его юридического трактата, Мальзерб [главный директор книжной торговли] послал billet de censure самому Оберу и попросил его вписать имя цензора; такого рода манипуляции нередко приводили к тому, что друг друга цензурировали друзья и коллеги». Еще очевиднее эта ситуация в ГДР, где «важные дела решались через неформальную сеть личных связей, действовавших параллельно жестким структурам партийного аппарата и государственных учреждений». Сам многолетний глава цензурного ведомства Клаус Хёпке оказывается — на фоне его коллег из отдела культуры ЦК партии и из министерства культуры — относительным либералом, который — неслыханная милость! — позволил Кристе Вольф обозначить отрывки, вычеркнутые его подчиненными из ее романа «Кассандра», отточиями, благодаря чему читатели могли вклеивать в эти места соответствующие дополнения, взятые из полного издания, напечатанного в ФРГ.
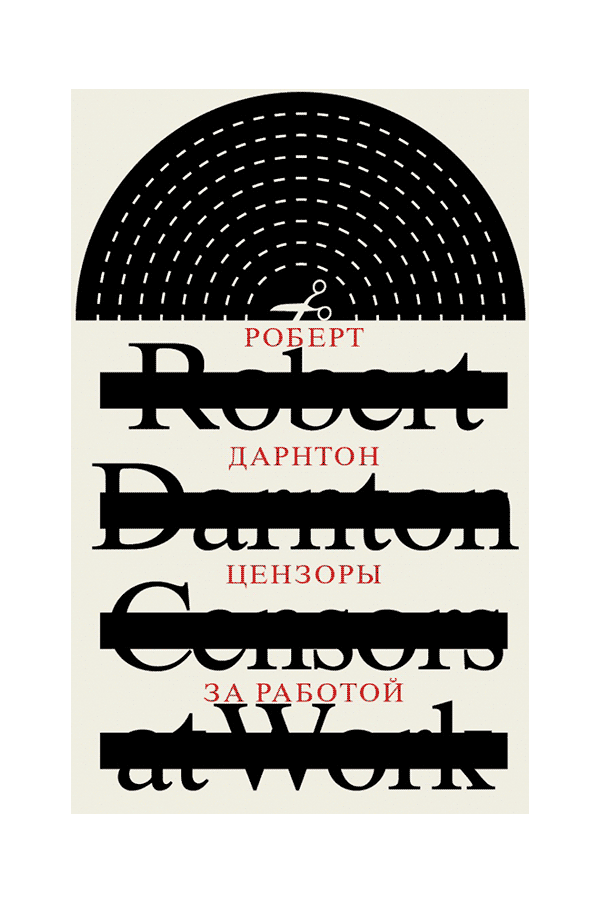 В начале книги Дарнтон приводит список ответов, которые дали ему студенты Гарвардского университета на вопрос, что такое цензура. Разброс впечатляющий: от «запрета на автоматическое оружие» и «присяги и отказа от присяги флагу» до «ношения или не ношения галстука» и «алгоритмов ранжирования в поисковых системах». Очевидно, что эти студенты, выросшие в свободной стране, не имеют ни малейшего представления о том, что такое предварительная цензура печатной продукции. Дарнтон такого широкого понимания цензуры, конечно, избегает. Он сознает, что «если понятие цензуры включает все подряд, оно лишается значения». Цензура, по его концепции, это не любое проявление власти, но проявление власти государства. Тем не менее рамки ее он сознательно раздвигает и настаивает: «Поскольку в отношениях между писателями и цензорами преобладали компромиссы, переговоры и сотрудничество, по крайней мере в трех рассмотренных нами системах, было бы неправильно определять цензуру просто как конфликт между творчеством и угнетением. Изнутри, особенно с точки зрения цензоров, их работа казалась неотъемлемой частью литературы. Они верили, что помогают ей существовать. Вместо того чтобы подвергать сомнению это убеждение, более эффективно было бы считать его частью системы». Именно эту систему Дарнтон и изучает. Нет ли в таких выводах подспудного оправдания цензуры?
В начале книги Дарнтон приводит список ответов, которые дали ему студенты Гарвардского университета на вопрос, что такое цензура. Разброс впечатляющий: от «запрета на автоматическое оружие» и «присяги и отказа от присяги флагу» до «ношения или не ношения галстука» и «алгоритмов ранжирования в поисковых системах». Очевидно, что эти студенты, выросшие в свободной стране, не имеют ни малейшего представления о том, что такое предварительная цензура печатной продукции. Дарнтон такого широкого понимания цензуры, конечно, избегает. Он сознает, что «если понятие цензуры включает все подряд, оно лишается значения». Цензура, по его концепции, это не любое проявление власти, но проявление власти государства. Тем не менее рамки ее он сознательно раздвигает и настаивает: «Поскольку в отношениях между писателями и цензорами преобладали компромиссы, переговоры и сотрудничество, по крайней мере в трех рассмотренных нами системах, было бы неправильно определять цензуру просто как конфликт между творчеством и угнетением. Изнутри, особенно с точки зрения цензоров, их работа казалась неотъемлемой частью литературы. Они верили, что помогают ей существовать. Вместо того чтобы подвергать сомнению это убеждение, более эффективно было бы считать его частью системы». Именно эту систему Дарнтон и изучает. Нет ли в таких выводах подспудного оправдания цензуры?
Ответ на это отчасти дает сам автор, когда признается, что, изучив действие цензуры при авторитарных режимах, он стал больше ценить Первую поправку к Конституции США, которую «презирают изощренные интеллектуалы» (Первая поправка гарантирует свободу слова). Дарнтон показывает действие довольно сложных и разнообразных механизмов, предоставляя читателю оценивать их самостоятельно. Он не клеймит, а анализирует. И читатель, думаю, должен быть ему за это благодарен.
В заключение, увы, не могу не прибавить к рецензии «ложку дегтя». Я упоминала выше романы «с ключом», которые, как пишет Дарнтон, вызывали наибольший ужас у французских цензоров XVIII века. Так вот, русскому переводу этой интересной и полезной книги не помешал бы ключ, из которого выяснилось бы, что Марк Блох — это французский историк Марк Блок, а канцлер Мопо — это канцлер Мопу, что аббат Шретьян — это аббат Кретьен, Дж. Б. Бойер — это Жан-Батист Буайе д’Аржан, а Напиер — Роберт Нейпир, что Bréviaire des chanoines de Rouen — это не «Краткое изложение руанских канонов», а «Требник руанских каноников», что «Oraison funèbre des conseils supérieurs » — это не «Прощальная речь верховных судов», а «Надгробное слово верховным судам», что internal exile — это не внутренняя иммиграция, а внутренняя эмиграция, а «техника, известная как „конфронтация”» — это просто очная ставка; что «Кёр де мэ Дворца Правосудия» — это Майский двор (Cour de mai) этого самого дворца, где каждой весной устанавливали майское дерево — символ плодородия, и, наконец, что в произведении Дидро «Племянник Рамо» диалог ведут не Муа и Луи, как считает переводчица М. Солнцева, а Moi и Lui, то есть Я (повествователь) и Он (заглавный герой). В переводе книги Дарнтона, который славится кропотливейшим изучением архивных мелочей, все перечисленные неточности (а их список, увы, можно умножить) особенно неуместны.