Радость узнавания себя: «О величии» Марселя Жуандо
Об одной книге французского богоискателя-мизантропа
Выдающийся мизантроп, симпатизант фашистов и просто малоприятный человек Марсель Жуандо оставил после себя не только изысканную прозу, но и философско-богословские труды, в которых искал ответы на основополагающие вопросы бытия. Один из них — «О величии» — теперь пришел и к русскому читателю. Алеша Рогожин — о том, чем отталкивает и одновременно привлекает этот нарциссический труд.
Марсель Жуандо. О величии. Тверь: Kolonna Publications, 2020. Перевод с французского Т. Источниковой
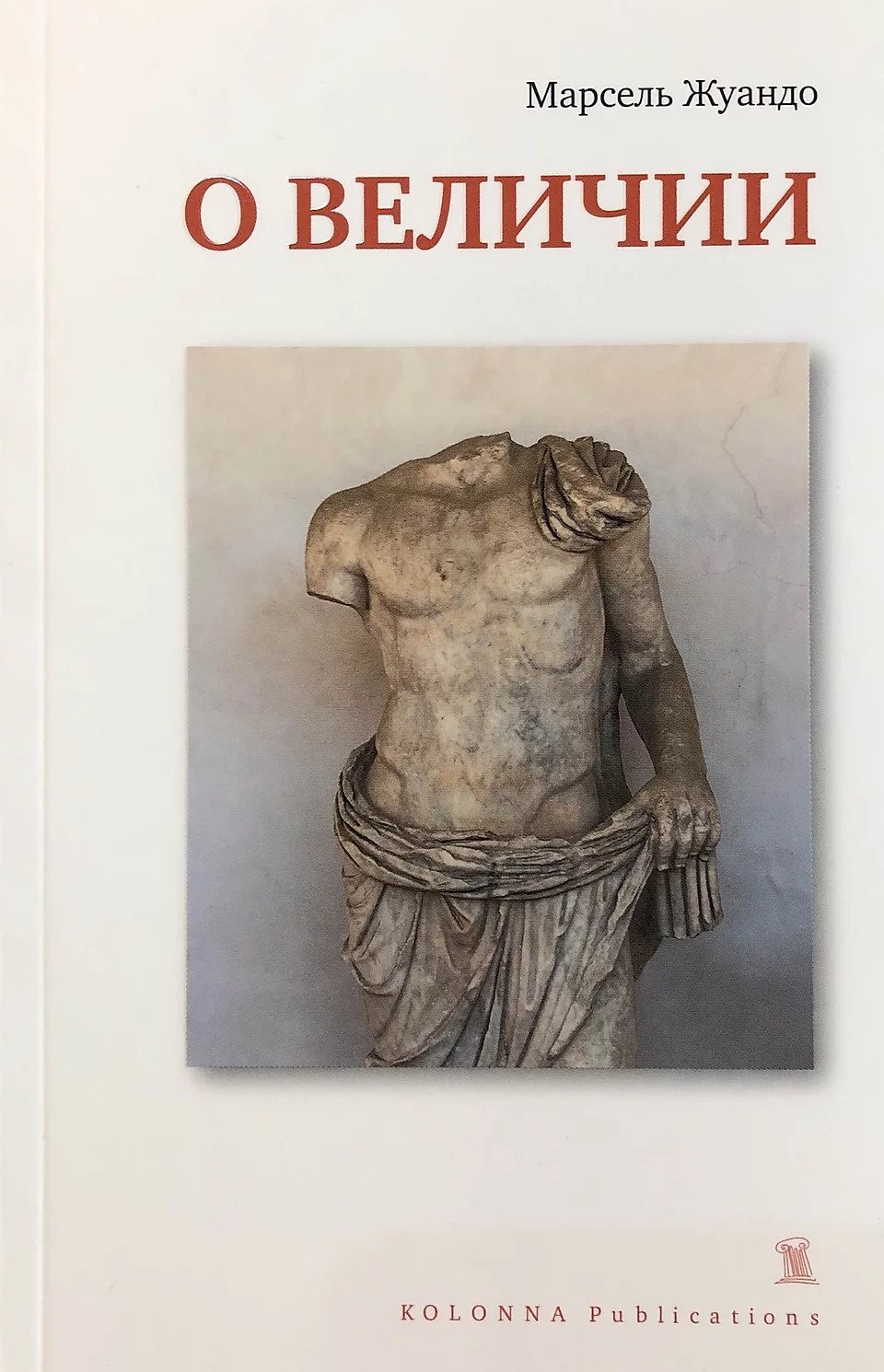 Очередная из бессчетно издаваемых «Колонной» книг Марселя Жуандо на сей раз оказалась чем-то вроде теологической публицистики в его фирменном стиле — своде афоризмов и фрагментов, объединенных сквозной мыслью. Книга разделена на две большие безымянные части с двумя маленькими поименованными довесками в конце: «Величие человека и преисподняя» и «О гордыне». Хотя строго разделить содержание больших частей вряд ли удастся, фрагменты первой тяготеют к изложению своеобразной религиозно-экзистенциалистской доктрины; вторая же посвящена в основном миру подлунному. Если же пользоваться терминологией самого Жуандо, утверждающего, что «место человека в мироздании — между Природой и Сверхприродным, на одинаковом расстоянии от них», то сперва он размышляет об отношении души со Сверхприродным, т. е. с Богом, во второй — с ее телом, миром, с Природой.
Очередная из бессчетно издаваемых «Колонной» книг Марселя Жуандо на сей раз оказалась чем-то вроде теологической публицистики в его фирменном стиле — своде афоризмов и фрагментов, объединенных сквозной мыслью. Книга разделена на две большие безымянные части с двумя маленькими поименованными довесками в конце: «Величие человека и преисподняя» и «О гордыне». Хотя строго разделить содержание больших частей вряд ли удастся, фрагменты первой тяготеют к изложению своеобразной религиозно-экзистенциалистской доктрины; вторая же посвящена в основном миру подлунному. Если же пользоваться терминологией самого Жуандо, утверждающего, что «место человека в мироздании — между Природой и Сверхприродным, на одинаковом расстоянии от них», то сперва он размышляет об отношении души со Сверхприродным, т. е. с Богом, во второй — с ее телом, миром, с Природой.
Жуандо не претендует не только на последовательность изложения, но и на системность самой излагаемой мысли — его нисколько не беспокоит, убедителен он или противоречит сам себе. Читатель данного опуса имеет дело с весьма натурально изображенным срезом сознания, окунувшегося в религию, но не обретшего там покоя и твердой догматической уверенности — непосредственного сознания со всеми его метаниями, несостыковками, косноязычием. Жуандо их не стесняется — напротив, он признается, что хотел бы сделать насколько возможно видимыми минимальные факты каких бы то ни было душевных движений, регистрируя их в той форме, в какой они действительно явились его внутреннему взору. Это не значит, что, подобно обыкновенным модернистским подражаниям потоку сознания, данный текст безнадежно обрывочен, неугомонно играет с синтаксисом и соскальзывает с одной темы на другую. Сознание Жуандо совсем другого свойства: оно удерживается на выбранном предмете, изъясняется грамматически корректно, исполнено определенного настроения — иногда возвышенно-торжественного, иногда трагически-отчаянного. Однако его язык не подвергается художественной фильтрации, мучительному подбору неожиданных или безупречно точных слов — оно именно таково, каково сознание человека, мыслящего сосредоточенно и не лишенного эстетического инстинкта, но не оценивающего себя внешними критериями художественности, убедительности или последовательности.
Нужно постоянно иметь это в виду при чтении книги: в одних ее частях Жуандо может быть откровенно скучным, пытаясь подражать пафосу раннехристианских апологетов и мистиков, не владея подобающими риторическими навыками, в других — наивным, критикуя распространенные среди его современников теоретические воззрения устаревшими лет триста назад аргументами. Порой нарциссический эскапизм автора, его сладострастная погруженность в собственный внутренний мир напоминают блог подростка или вариации на тему «Моего необходимого объяснения» из «Идиота», правда, с куда меньшим накалом чувств. Однако текст Жуандо лишь по видимости уязвим для подобной критики — он вовсе не собирается ни красноречиво убеждать кого-либо в том, что принял для себя, ни изобретать остроумные аргументы против, например, материализма, ни производить впечатление солидного и умного человека, равно как и какое-либо другое впечатление. «По правде говоря, я тем больше чту собственные убеждения, чем более они ценны лишь для меня одного», — говорит он в своем ницшеанском порыве: эти слова можно отнести не только к условно «теоретическому» слою книги, но и к применяемому в ней художественному методу.
Однако, несмотря на то, что оба слоя там как бы есть, она представляется современному читателю скорее любопытным документом из жизни послевоенной реакционной французской интеллигенции, чем ее художественным или теоретическим осмыслением — документом весьма откровенным и не скупящимся на признания. Спасение в религии и религиозной совести Жуандо, по его словам, вынужден искать из-за преследующего его чувства беспокойства, или ангста, как тогда любили выражаться: внешний мир неустойчив, тревожен, не поддается никакому контролю и вечно подсовывает самые неприятные неожиданности вроде мировых войн и экономических депрессий. Жуандо сопротивляется политической повестке, общественным интересам и конфликтам, догматам церкви — всякой сфере, придающей личности внешнюю определенность по своим собственным правилам. Он не узнает себя в тех эффектах, которые, казалось бы, по своей собственной воле производит на людей и вещи, ему кажется, что их сложные отношения это лишь дьявольская головоломка, призванная задушить непосредственные, свободные и ясные порывы души, которая, в противоположность обществу, постоянна, проста и неделима.
 Марсель Жуандо
Марсель ЖуандоПоэтому он решает отдавать кесареву кесарево, выполнять минимальные требования окружающей среды — то есть, не вкладывая душу в строительство здания, в котором позже не узнаешь своего вклада, избежать разочарования, ведь постоянное узнавание себя для его нарциссической души — нечто жизненно необходимое. В подобном положении, сперва после Первой, а затем Второй мировых войн, оказались многие представители научной и творческой интеллигенции: патриотический пафос обернулся опустошающей душу мясорубкой, новая политика оказалась непохожей ни на афинскую агору, ни на руссоистскую манифестацию народного единства, а свойство капиталистической экономики пожирать все общественные отношения, игнорируя государственные границы и ломая духовные скрепы, стало зримым безо всякой критики политической экономии. Вся современная цивилизация — и технически, и социально — стала базироваться на строгом рационализме, однако прочно ассоциировавшийся с ним просвещенческий гуманизм оказался новому обществу нерелевантен — тогда маятник качнулся в противоположную сторону, и умами интеллигенции завладели идеи о беспорядочности и тщете мироздания, противополагаемого, например, всегда равной себе и свободной душе.
И если художественное воплощение подобного опыта — произведение штучное, то теоретически оно было исчерпывающе описано экзистенциалистами, из которых Сартр, пусть он и из более молодого поколения и всегда был на противоположной стороне баррикад, был бы для Жуандо наиболее близок. Те афоризмы из «О величии», которые не выглядят цитатами из Тертуллиана, Экхарта или Элиаде, больше всего похожи на тезисы «Бытия и ничто». В этом контексте то, что предстает для Жуандо вечными проблемами, для нас оказывается лишь историческим курьезом — поэтому мы уже не можем в полной мере прочувствовать пафос и духовное напряжение, которые пронизывают книгу; не можем даже в тех случаях, когда ловим себя на близком сходстве с автором. Поэтому я не хочу сказать, что Жуандо вторичен — скорее, он типичен и, увы, во многом предсказуем.
Разумеется, не останутся без добычи те читатели, которые охотятся за авторами этого круга, чтобы вновь пережить смакуемый ими разрыв между возвышенной моральной верой и безвыходным цинизмом обстоятельств, между искушенностью в созерцании красоты и невозможностью отвести взгляд от уродства мира, весь этот французский салат из молитв и порнографических сцен. Однако, в отличие от многих ранее выходивших по-русски книг Жуандо, здесь эта диалектика разыгрывается лишь в рассуждениях о грехе и благодати, христианском и языческом культах и не стремится удостоверить себя через биографические примеры или яркие художественные образы.
Нельзя не отметить, что, в сравнении с существенной частью подобной литературы, книга Жуандо заряжена труднообъяснимым оптимизмом. Спасаясь от всеобщего брожения в вере, которая сама также теряет привычные очертания (Бог обращается к Жуандо: «Я не прошу тебя Мне повиноваться. <...> Я лишь прошу тебя принимать Меня во внимание»), Жуандо преисполнен того, что он называет главной добродетелью — гордыни. Ее, в свою очередь, он ставит в зависимость от Бога, вверившего человеку такой дар, но Бог ему нужен для того, чтобы обеспечить этот его последний бастион — гордыню. Казалось бы, такая дурная диалектика скорее пригодна для того, чтобы вводить в отчаяние, заставляя колебаться между двумя полюсами без надежды на их воссоединение. Но Жуандо видит в ней способ сделать сами грехи святыми, не отказывая в святости и богоподобии ничему из сущего, включая язычество и безбожие как предусмотренные Богом пути к Нему. Для христианина же, подчиняющего гордыню скромности перед Богом, а чувство — вере, сами гордыня и чувственные влечения в своих вотчинах ничем не ограничены.
Однако неподготовленный читатель вряд ли сможет отметить для себя это необычное достоинство книги (скорее всего, ему станет непреодолимо скучно еще к середине первой части) — как уже было сказано выше, текст представляет из себя срез сознания Жуандо как оно есть. Монотонные по форме и, на первый взгляд, сумбурные по содержанию рассуждения о Боге и религии способны ввести в недоумение: автор не раскрывает ни предпосылки, ни мотивацию своих рассуждений, а когда делает вывод, то тут же топит его каскадом новых словесных волн — тяжелых, напористых, меняющихся по ходу движения и не имеющих определенных границ. Скромный издательский комментарий сделал бы «О величии» доступной куда более широкому кругу читателей; впрочем, таких задач «Колонна» себе никогда не ставила.