Пустошь ошеломительных и спокойных излишеств
О сборнике Бернара Рекишо «Фаустус и другие тексты»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Бернар Рекишо. Фаустус и другие тексты. М.: Новое литературное обозрение, 2023. Составление и перевод с французского Виктора Лапицкого. Содержание
 Писать о Рекишо почти неуместно, потому что место шевелится. Да и он сам пишет все время о себе как о пустом центре, его проза — это выписывание себя как себя, понимание себя как другого, слова как вещи, вещи как чистого имени.
Писать о Рекишо почти неуместно, потому что место шевелится. Да и он сам пишет все время о себе как о пустом центре, его проза — это выписывание себя как себя, понимание себя как другого, слова как вещи, вещи как чистого имени.
Для критической метарамки места не хватает. Поэтому только провалы в биографию, в методы чтения его текстов, спекулятивные подстановки и в скучное структурирование — единственное, что остается пишущему «о».
Я бы хотел оставить этот текст грязным черновиком: с пустотами, лишними пробелами и скопированными в разных форматах цитатами из Рекишо, Барта, Жуффруа и своих измышлений, но критика верит, а институция подтверждает, и падение смысла все равно приводится к тотальной округлости.
* * *
Биографический путь Бернара Рекишо, французского художника и писателя, — скоростной, как и его живопись, инсталляции, письмо: он быстро находил и переключался с возможностей на возможности, разрабатывая все более радикальные практики работы.
Трудный для коммуникации, не вступавший в художественные объединения, не показывающий свои работы почти никому, Рекишо радикально освобождал место для чистой энергии созидательных сил — вне экономических, символических и прочих значений. Даже о существовании незаконченного романа «Фаустус», давшего название книге, стало известно только после смерти автора, который в 32 года, после нескольких курсов в психиатрической больнице, выбросился из окна своей мастерской.
Рекишо учит агрессивному отказу от застывших смыслов, поэтому рецензии ему чужды, аннотации и обобщения отвратительны, аналитики мертвы своими словами.
То, что первая в России книга произведений Бернара Рекишо вышла в серии «Очерки визуальности», проблематизирует всю связку процедур письмо/зрение/чтение/рисование/видение и требует при работе с его текстами удержания внутреннего визуального пространства, на котором проявляются знаки, будь то буквы, линии и другие носители/заместители смысла.
Художественная практика Рекишо складывалась из работы с разными материалами и инструментами. Он использовал не только угольный карандаш, но и мясницкий нож, совок для угля, столовые приборы. Он соскабливал, скреб, царапал поверхность, перерезал старые работы и делал из них новые. Он использовал человеческие выделения, пищу и товары масмаркета, например кольца для занавесок. Он собирал «Реликварии», ящики, наполненные землей, камнями, корнями и костями, лежащие вместе с фрагментами живописи. О его методе работы с предметами пишет Ролан Барт:
Вещи, которые проникают в живопись Рекишо (сами вещи, а не их подобия), — это всегда отбросы, отвергнутое дополнение, оставленные части: то, что отбросило свою функциональность.
Ниже Барт пишет, что с помощью таких техник и конструкций художник ищет место, где бы «работало, прорабатывалось его тело: укрывалось, прибавлялось, завертывалось, выставлялось, разряжалось, наслаждалось; коробка служит ковчежцем не для костей, будь то святых или цыплят, а для наслаждений Рекишо».
Наслаждение, его наполнение и исчерпание, как бы перешагивающее через исток желания, находится в центре практик художника. Точкой наибольшего совпадения траекторий письма и визуального («машинерии движений отталкивания и наслаждения» по Барту) являются «Нечитаемые письма», обращенные то к торговцу картинами, то к рамочному мастеру, то к любителям искусства, то благодарственные, то оскорбительные.
Они состоят из заостренных кружащихся линий, напоминающих алфавит, который отказывается принимать значения языка, синтаксис и остается на кромке визуального, сохраняя его как свободу.
Письма являют довербальную силу нажима, силу жеста, которая преподносится адресату или какой-то модальности. Адресатами писем Рекишо являются не конкретные люди, а аффективные институциональные конгломераты языковых общностей. Письмо Рекишо атакует бессознательное языка тех, кто зарабатывает на живописи, тех, кто прикрывает собственную трусость этикетом. Письмо без слов, но с интенцией вызывает немыслимые ответы и у адресатов. Поэтому они до сих пор молчат.
Когда ты пишешь нечитаемые письма, их размозженная знаковость быстро накапливает силу, ритм, ауру значения, а сколько нужно написать текста, где есть семантика, где во время чтения утрачивается визуальное, зримое становится функциональным? Поэтому оборванность и отрывочность, когда взгляд проваливается в бездну недописанного, возвращает ему материальность. Письмо превращается в падение читающего и их совместную с автором смерть от многочисленных переломов смысла.
Нечитаемые письма для нас, русскоязычных, дважды нечитаемы: они написаны на языке, которого нет, внутри когнитивных (жестовых?) линий французского.
* * *
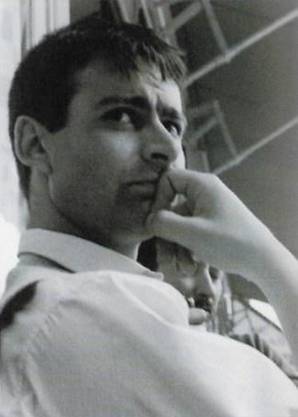 Бернар Рекишо. © bernard-requichot.org
Бернар Рекишо. © bernard-requichot.org
Роман «Фаустус», формирующий большую часть книги, принципиально не завершен. Он состоит из нескольких фигур, которые образуют различные ритмические, и жанровые узоры, вертящиеся вокруг опустошающихся аттракторов желания. Изменения скорости перебрасывают текст в новые измерения: из псевдобиографического рассуждения — в литании, из сопоставлений — в леттристский асемантизм. Они говорят об одном, но не договаривают, обрываются: желание не должно совпасть с наслаждением, как в прозе с началом и концом.
Рекишо не ограничивает себя в методах: его образы клубятся, исчерпываются, переключаются на другие. Персонажи и некий «он» все время в переворачивающихся отношениях. Пишущий наблюдает за своим письмом и периодически отрывается от описываемого событийно, сополагаясь в пространстве текста по-новому: например, когда «он» зовет «я» в гости.
«И я замирал, парализованный между двумя своими голосами».
Мысль себя-другого иногда раскаляется до того, что приобретает сексуализированное измерение:
«Он любуется своим удом в поршне локомотива; дыра, оставленная гвоздем в штукатурке стены, оказывается вратами таинственного влагалища. Он дрочит замочные скважины, ведь это вагины. Его грезы проистекают из непотребств».
Когда текст жанрово видоизменяется, это происходит органически, сохраняя напряжение наслаждения. Для этого Рекишо использует повторы, смену ритмов, переход от прозы к стихотворной форме. Он перевзвешивает не только слова, вещи и образы, но и жанры: какой из них доставит наибольшее наслаждение?
Например, фрагмент о музыке, начинаясь как рассуждение и кружение около феноменологии шума и описания отсутствующего источника звука, завершается повторениями, стихотворениями, литаниями. Письмо разогналось до неразличимости мифа, до отказа от жанровой природы.
«Шумы — это голос существ? Но не может ли быть, что существа, чьим голосом являются шумы, не существуют? И шумы окажутся тогда одинокими, не принадлежащими никому голосами».
Повторами Рекишо атакует собственное мышление: те мысли, которые мы уже обдумали, — часть другого, когда они возвращаются, на нас нападают уже другие мы.
Структура письма позволяет ему с помощью неограниченного числа приемов/находок и переключаться между фигурами, и обращаться к устройству самого письма, и критиковать себя-автора-другого, и давать автокомментарии. Тексты Рекишо поедают собственные метауровни. В некоторых частях письмо достигает интенсивности религиозного откровения.
Иногда сила письма приводит автора даже к бесстрашным банальностям, так и выясняется, что банальность — подлинное откровение.
«Абстрактны ли потеки влаги на стенах, трещины на потолке? Абстрактны ли, раз ничего не изображают, грязная бумага, траченая ветхостью доска? Нет. Все они изображают то, что ты хочешь, что ты желаешь в них увидеть. Все зависит от прыти воображения».
Есть и прямые указания на метод, все письмо пишется на самом себе, как на теле, из тела:
«Он же, выставив это сокровище на яркий дневной свет, его умертвил. Выложил на стол.
...он сотворил себе кумира из самого себя, скажу точнее: кумира из хитросплетений своего мозга, из фрагментов этого хитросплетения, из их подвижности, их закона.
Он хочет самого себя в сыром виде; ему хотелось бы уловить себя без ретуши, застать наголо, врасплох.
Он был тогда в совокупности и бездной, и изумлением, автором собственных затруднений; в таком состоянии он становился подозрителен сам себе.
Он также смутно провидит столь невидимые чувства, столь зыбкие границы, столь чахлые тени идей, что ему невдомек, в какой внутренний момент можно честно сказать: я все еще мыслю».
* * *
«Фаустус» — лишь повод для начала романа, камешек желания, переносной мешок для гранул наслаждения, Рекишо эксплуатирует фигуру средневекового доктора в его постоянном перекатывании от добра к злу и обратно, в машинерии сомнений, в алхимии и ее трансмутациях, в скольжении по возрастной шкале. Фауст не сидит на месте — не имеет места. У рекишовского Фауста нет спутников, ни Мефистофеля, ни Гретхен, ни бога — они бы образовали маяки, ограничивающие движения изменений письма. Он ближе мифологическому с его соскальзывающим переносом с тени на человека. Без спутников Фауст чист, и чист настолько, что может «извлечь по желанию из ментальности внутренние реальности, довести их до очевидности — вот что преследует нашего инфаустатора».
У Фауста много и других имен в тексте: это и Семирамида, и Орфей, и Данте, и Ева — фигуры, припадающие к истоку первослова, первосмысла. Они не персонажи, они лишь имена — временные переносчики свободы смещения.
Рекишо смещает значения не только с помощью персонажей, но и через переключение между лицами, обращение к себе как к другому, к своей мысли как чужой, производя радикальное истощение фигур письма и самопринятия:
«Он был тогда в совокупности и бездной, и изумлением, автором собственных затруднений; в таком состоянии он становился подозрителен сам себе».
Ален Жуффруа в тексте «Черная буква», размещенном в приложении к книге, пишет: «<Рекишо> сомневается даже в существовании собственной мысли и при этом беспрестанно обращается к самым летучим феноменам и чувствует себя увереннее всего на зыбкой территории предчувствий, интуиций и сновидений». Рекишо уточняет:
«Мыслить — это ничто. Мысль — это ничто. Мысли, копящиеся друг за другом, — не что иное, как тень, которая покрывает мысль своей тайной...»
Мысли длятся и уходят за собственный горизонт: в недосказанность, в недомыслимое. Части Фауста обрываются, заканчиваясь только во внешнем зримом. Фигуры письма обрываются: фрустрация становится освобождением, метаоргазмом.
Возбуждаясь от субъекта, возбуждение, вербализуясь, перескакивает на саму вербализацию. Только завершенный текст уже ничего не желает сам, его могут некрофильски желать, а он мертв. Но работы Рекишо отказываются от этой мертвенности. Вместо поиска конца он с удовольствием кружится, разыскивая начала, отрывая и отрывая в реликвариях образов новые слои происхождения смысла.
 Бернар Рекишо. Три совы. 1960. © bernard-requichot.org
Бернар Рекишо. Три совы. 1960. © bernard-requichot.org
* * *
Рекишо очарован говорением о первоистоке, поисками фигур, указывающих на него: но если в живописи он имеет все шансы вернуться в пространство до-образов, чистых ассоциаций и шумов цвета, то слова у него все равно образуют предложения, ритмизируют друг друга, образуют логические узоры:
«Дело даже не в прицельном попадании слова или сказания, а в том, чем становишься, когда тебя это задевает, в наших изменениях под их воздействием, в нашем способе выцветать при их прохождении, уподобляться тому, что созерцаешь, терять рассудок и погружаться в сказание».
Что остановит поток уточнений, преображений, движения к первоистоку: только безжалостный жест оформления, отграничивания. Разница между письмом и произведением.
* * *
Письмо в «Фаустусе» — это поиск точки обзора, изнашивающее взгляд пишущего, если перед ним возникают круговерти образов и определений. Неизбежное истощение. Его можно только откладывать. Как пишет Ален Жуффруа:
Речь идет об углублении вплоть до полного истощения принадлежащей ему мысли и ни о чем другом.
Проблематично говорить о строе мыслей Рекишо, об особенностях субъекта письма и его жестикуляциях, все смещено. Ролан Барт вообще отказывает работам Рекишо и в процессуальности, и в номинативности, там нет ни движения, ни называния. Поэтому остается говорить о прилагательных: мы можем наделять не-движение, не-вещь какими-то качествами, но это нужно только для нас — эти не- сами не примерят ни одно из них. Так центр желания, то есть вещи, то есть произведения, остается нетронутым, неприкосновенным. Всегда желанным.
* * *
Читателю, чтобы не быть фригидным, следует выискивать собственное наслаждение от рекишовского письма: материализовывать чтение — от живописьма к живочтению, живопониманию.
Для Рекишо следует выдумывать новые способы чтения, материализующегося чтения, чтобы оставлять жирные следы на бумаге, рытвины в своих внутренностях и выдалбливать новые когнитивные желоба.
А раз проза Рекишо не имеет финалов, мы создадим их изнутри, как паузы обрыва, как коллапсирование образов, взрывы когнитивных капсул в неожиданных местах страниц.
Если же использовать инерционное «проглядывание глазами» и не возвращать к телу чтение и понимание этих текстов, не пытаясь осваивать и захватывать уголки письма, то с читательской наружи не остается места для соприкосновения — только чистое отлучение от плоти текста.
* * *
Сборник завершается двумя программными эссе об авторе «Фаустуса»: «Черной буквой» Алена Жуффруа и «Рекишо и его тело» Ролана Барта. Каждый из них находит свой способ найти место для письма.
Жуффруа, который был знакомым Рекишо, скользит между всполохами из биографии автора, сочувственным отношением и принятием способа его существования, обнаруживает прячущуюся, но просвечивающую фигуру смерти и пытается выстроить логику в том, как освобождение в созидании привело к самоубийству:
«Рекишо, всю жизнь желая „стать мифом, персонажем сказаний“, им таки стал, несмотря на значительное расстояние, отделяющее его от самого себя, а может быть — именно из-за него».
Ролан Барт, чтобы не погрязнуть в бесконечности смещений фокуса письма, использует способ, уже опробованный им во «Фрагментах речи влюбленного», и разбирает Рекишо через ряд фигур: «Крысиный король», «Эрекция», «Пища», «Отбросы», «Спираль» и множество других. И это логично: он побеждает «тотальную языковую практику» своими фрагментами. Но фрагментарность письма и в таком случае оказывается недостаточной, чтобы ухватить всю поли- и какофонию интенций автора. И в финале своего эссе Барт признается, что пишет даже не «о» Рекишо, а вокруг него. Но и это результат, такие фрагменты «вокруг» «порождают сплошь нечто клейкое, питательную, роскошную и тошнотворную смолу, в которой и упраздняется расчленение, то есть именование».
* * *
Перевел тексты Рекишо для настоящего сборника Виктор Лапицкий — создатель самых разных поверхностей и форм для слов французской литературы, повернутых к русскому языку близко, почти интимно, почти слипаясь с откровением телесной близости.
Фигура Рекишо замыкает череду французских радикальных писателей ХХ века, и в каком-то смысле оказывается почти такой же неконвенциональной, как Антонен Арто или Эдуар Леве, тоже переведенные Лапицким. Последний из них тоже закончил свое письмо самоубийством, рассказав в одноименном романе историю суицида своего друга, которую повторил в действительности. Но Рекишо сделал иное: он выписал себя в письме до изнанки настолько, что смерть оказалась игольчатой кожей, на которой переливаются отсветы рекишовского письма. Но пробиться сквозь нее внутрь почти невозможно.
В конечном итоге книга Рекишо показывает, что письмо и чтение — два вида самоубийства. В этом жутком совпадении и в натягивании судьбы на письмо, чтения на смерть есть невероятное наслаждение: редкий случай когда стремление к смерти принимается за витальность.
Поэтому хоть мы и читаем «Фаустуса», но видим нечто иное. И в этом месте невидения будет продолжаться работа по возобновлению желания письма, несмотря на отсутствие самого Рекишо. Зато гранулы наших желаний будут обсыпаться с неполноты восприятия и наполнять невидимого Рекишо силой неустанного движения.
Рекишо искал точку вненаходимости: творения и творящего, письмо происходило или исчезало в месте их встречи. Но это встреча-поглощение, схлопывание: никто не остается в живых, когда письмо проступает изнутри, выжигая кожу. Ходячая внутренность Рекишо: письмо без кожи. Так и получается, смерть помещает его в ту вненаходимость, где его телом теперь становится наше чтение.