Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Александр Долинин. Путешествие по «Путешествию в Арзрум». М.: Новое издательство, 2023. Содержание
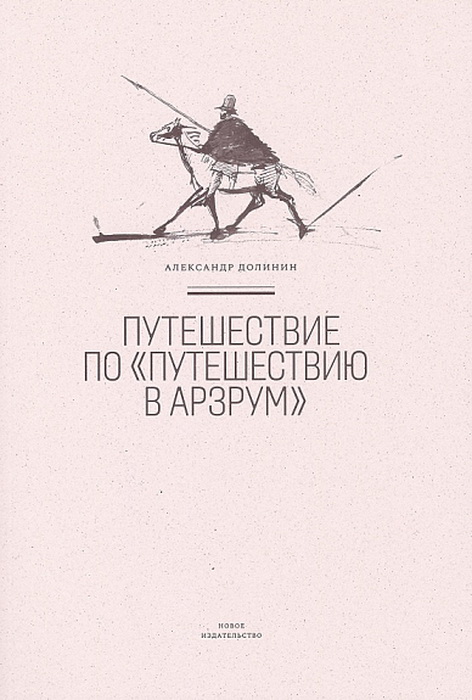 Ясным солнечным утром 22 апреля 2022 года на трассе, связывающей армянские города Ванадзор и Ташир, образовалась пробка. Местные фермеры оставили грузовики со своим товаром прямо на дороге и собрались на обочине, где сгрудилась многоголовая толпа, смотревшая куда-то вдаль. К ним присоединились туристы из Японии и всякие угрюмые зеваки — преимущественно русские. Даже иранские дальнобойщики забрались на кабины своих фур, чтобы посмотреть — где кончается затор и что же такое случилось.
Ясным солнечным утром 22 апреля 2022 года на трассе, связывающей армянские города Ванадзор и Ташир, образовалась пробка. Местные фермеры оставили грузовики со своим товаром прямо на дороге и собрались на обочине, где сгрудилась многоголовая толпа, смотревшая куда-то вдаль. К ним присоединились туристы из Японии и всякие угрюмые зеваки — преимущественно русские. Даже иранские дальнобойщики забрались на кабины своих фур, чтобы посмотреть — где кончается затор и что же такое случилось.
Вдалеке на холме собралась толпа поменьше и однороднее — в основном мужчины в рубашках и пиджаках. Они суетились вокруг какой-то глыбы, закутанной в белое полотнище. Люди на трассе совсем забыли про свои дела и принялись спорить о том, что же происходит. Очень скоро оживленная беседа их приняла более конкретный оборот — полотнище торжественно упало, и стало ясно: кому-то поставили памятник, и теперь следовало выяснить кому.
Те, кто позорче, принялись описывать, что им удалось разглядеть. «Полководец какой-то или генерал», — предположил один старик, добавив, что «одежда генеральская». И действительно: огромная, минимум в три человеческих роста фигура из белого камня была облачена в подобие плаща, но воинственности ей придавало не столько облачение, сколько поза победителя, торжествующего над павшим врагом.
Кто-то тут же пустил слух, что это памятник Гарегину Нжде. Толпа заметно оживилась: одни принялись шумно высказывать свое одобрение, другие столь же шумно беспокоились о том, как это скажется на армяно-российских отношениях. Гвалт был прерван новым сообщением: лицо у статуи злое, кудрявое.
— Пушкин! — громко предположил какой-то худой, как цапля, русский парень с синими волосами.
Но на его реплику никто не обратил внимания — по большей части потому, что здесь уже есть один монумент, возведенный в честь Пушкина. Отбросив эту версию, зеваки начали выдвигать собственные теории: одни говорили, что это наверняка лорд Байрон, другие почему-то убедили себя и окружающих в том, что это Гагарин.
Словами не описать, какое разочарование постигло народ, собравшийся на трассе Ванадзор — Ташир, когда выяснилось, что на перевале действительно поставили очередной памятник Пушкину. Фермеры вернулись в грузовики и поехали дальше, туристы последовали их примеру, а иранские дальнобойщики так ничего толком и не поняли. И никто даже ни словом не обмолвился о российском имперском сознании — повод для подобных дискуссий оказался слишком заурядный и малозначительный.
И все же интересно — как так вышло, что в 2022 году на Южном Кавказе на символическом уровне сохраняется наследие поэта, чье отношение к региону было, как принято говорить, «неоднозначным»? Во многом удивительный факт: и в Ереване, и в Тбилиси, и в Баку улицы, названные в честь Александра Сергеевича, сохранили свое название даже после самых травмирующих событий, приведших к развороту трех столь разных республик от советской, а затем и российской Москвы. Какая невидимая рука оставляет (впрочем, до поры до времени) силуэт Пушкина на улицах, вероятно, всех городов, исторически так или иначе связанных с Россией? Ответ на этот вопрос я лично попытался найти на страницах новой книги пушкиниста Александра Алексеевича Долинина.
Первое же, что почувствует заинтересованный читатель «Путешествия по „Путешествию в Арзрум“» — феноменальный разрыв между идеологическим и эстетическим содержанием описываемой в нем части пушкинского наследия. С одной стороны, Долинин напоминает, что в России первой трети XIX века был полный консенсус по «кавказскому вопросу», а споры вокруг него если и велись, то лишь по поводу средств, которыми он должен быть решен:
«Например, наиболее жесткие, бесчеловечные „силовые“ методы решения проблемы предлагал революционер П. И. Пестель в „Русской правде“, тогда как охранитель К. В. Нессельроде, враг свободы во всех ее проявлениях, писал И. Ф. Паскевичу 16 декабря 1830 года, что идея покорения кавказских горцев военной силой ему не нравится».
Молодой Пушкин же, как мы помним, нисколько не сомневался в том, что те народы Кавказа, которые еще не покорены, должны быть покорены, а те, которые не христианизированы, — прийти к религиозному единообразию с метрополией. То, что для выражения этих мыслей Александр Сергеевич использовал поэтический дар, в итоге заставило Вяземского сокрушаться по поводу «Кавказского пленника»: «Поэзия не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта не должны быть никогда славословием резни».
В сторону Арзрума Пушкин направился не в поисках поэтического вдохновения. Долинин выделяет две основные причины, заставившие поэта без разрешения выехать на Кавказ: первая — он расценивал это как возможность вырваться из России; вторая — он намеревался принимать самое непосредственное участие в войне. И первое, и второе, пожалуй, очень плохо сходится с образом Александра Сергеевича, который вставляют в наши головы школьные учебники: в обоих порывах Пушкина нет, с одной стороны, лощеного кабинетного патриотизма, а с другой — пушкинского бонвиванства, на смену которому приходит пусть и романтико-поэтическая, но все же кровожадность:
«Артиллерийский офицер Э. В. Бриммер вспоминал, по его словам, „немного смешной случай“, когда русские войска подошли к Арзруму и заняли высоты вокруг города: „Пушкин стоял пред главнокомандующим на чистом месте один. Вдруг первый выстрел из батареи 21-й бригады. Пушкин вскрикивает — „славно!“ Главнокомандующий спрашивает: „Куда попало?“ Пушкин, обернувшись к нему — „Прямо в город!“ — „Гадко, а не славно“, — сказал Иван Федорович“».
В «Путешествии», работа над которым будет завершена в 1835 году, от этого наивного милитаризма не останется и следа — «ретроспективно Пушкин понял простую истину, которую первым сформулировал Пиндар в „Гипорхеме фиванцам“: „Сладка война — для не изведавшего войны; / А кто сведом с ней, / Тот без меры трепещет прихода ее / В сердце своем...“». Само же произведение современников Пушкина не впечатлит: читателей оно оставит либо разочарованными, либо равнодушными.
Одна из причин холодного приема «Путешествия в Арзрум» сегодня может удивить. Произведение, на котором учились писать модернисты в диапазоне от Мандельштама («Путешествие в Армению») до Набокова (травелог Пушкина открывает для себя герой «Дара»), первым его читателям показалось сухим и невзрачным собранием разрозненных заметок, наспех сделанных в дороге. Долинин интереснейшие страницы посвящает тому, что именно таков и был замысел Пушкина, желавшего создать не факт литературы, но факт самой человеческой жизни. В этом стремлении Александр Сергеевич не был первопроходцем — свои травелоги стилизовали под «дорожный дневник» и Карамзин, и Шатобриан, и многие другие авторы эпохи. Но, судя по всему, Пушкину в его стилизации удалось зайти дальше остальных, создав произведение, в котором различие между документом и его литературной обработкой начисто стерто (а вернее — сведено до того состояния, в котором оно становится невидимым для читателя).
При этом критики пушкинской эпохи, прояви они больше наблюдательности и дотошности, могли бы заметить, что в этом сухом травелоге есть место и литературной игре, и литературной полемике. Так, Долинин предлагает сравнить два фрагмента, один из которых принадлежит перу Бестужева-Марлинского, а другой — Пушкина.
«Весь Ахалцых открылся как на ладони. На высоком каменном сосце дерзко вставал старинный замок его, подпершись башнями и оскалив зубцы свои, между коими сверкали пушки. Домы города, с нависшими ярусами, с цветными ставнями, с плоскими кровлями, возвышались неровными, уступчатыми купами, затмив между собою спутанные улицы. Иные из них, казалось, лезли в гору к стопам замка, чтобы приютиться под его защиту; другие словно разбежались по склону холма вдаль от жадности паши. Там и сям из среды их просились в небо стройные минары, получившие голос подобно статуе Мемнона от солнечного луча».
И:
«С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую».
Полагаю, не нужно пояснять, какой пейзаж принадлежит какому автору и чей текст стоил очевидно бо́льших творческих усилий. Но, повторюсь, от современников Пушкина с современной для них эстетической оптикой это понимание, очевидное для нас, ускользнуло.
Другая распространенная претензия, помимо «сухости», из предъявленных «Путешествию», заключалась в том, что Пушкин из своего странствия не привез описания одежд, обычаев и вообще культуры увиденных народов. Сейчас бы это назвали «имперской слепотой», а в XIX веке скорее сочли равнодушием к читателю и его (к слову, весьма имперскому) любопытству.
Действительно, Пушкин по большей части равнодушен к культурному наследию Кавказа, а его описания встреченных горцев подчеркнуто лапидарны и, пользуясь удачно подобранным Долининым словом, «внеоценочны».
Почему Пушкин распространил «сухость» своего повествования не только на горные пейзажи, но и на живых людей из плоти и крови? Я лично не решусь ответить на этот вопрос. Вместо этого предлагаю подумать над другим.
Вот, скажем, Байрон, кумир юного Пушкина, был активным участником войны за независимость Греции. В чем идеологическое содержание этого факта его биографии? Можно сказать, что он был настоящим прогрессивистом, борцом с империализмом, отдавшим жизнь в национально-освободительной борьбе угнетенных народов. На это можно возразить: нет, Байрон, вольно или невольно, участвовал в заговоре колониальной христианской цивилизации в ее борьбе с восточным миром и его инаковостью (попутно апроприируя албанский национальный костюм). Какая из этих позиций будет верной?
Пушкин, не интересуясь (или по крайней мере сознательно не описывая свой интерес) кавказскими культурами, был ослеплен имперской культурой, носителем которой являлся? Или, напротив, не хотел экзотизировать кавказские народы, изображая их инаковость исключительно через костюм и особенности быта?
Какие из этих утверждений верны? Возможно, все. Возможно, никакие. А возможно, это мы, ленивые и нелюбопытные, сами расставляем себе всевозможные ловушки и ловушечки, анализируя не Байрона и Пушкина, а чудовищные механизмы власти, которые за ними стоят, подчиняя своей разрушительной коллективной воле их индивидуальное художественное наследие?
Больше вопросов, чем ответов. Но, благодаря таким книгам, как «Путешествие по „Путешествию в Арзрум“» Александра Долинина, природа этих вопросов становится как минимум яснее.
