Прокрики и крики
О книге Ксении Филимоновой про эстетику Варлама Шаламова
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Ксения Филимонова. Эволюция эстетических взглядов Варлама Шаламова и русский литературный процесс 1950–1970-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2023. Содержание. Фрагмент
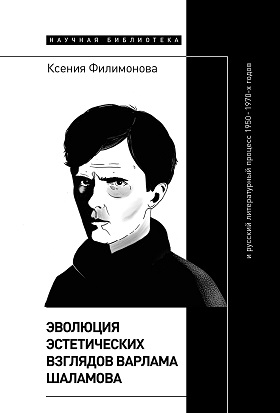 Поэт Геннадий Айги как-то записал такое воспоминание о своей встрече с Варламом Тихоновичем Шаламовым: «Иван Дмитриевич Рожанский предложил В. Шаламову записать его чтение на магнитофон. Шаламов охотно согласился: он хотел прочесть стихи. Раздались два-три тихих голоса: „Не прочли бы вы вашу прозу“. Варлам Тихонович прочел один рассказ, я не запомнил какой. И вот по какой причине (да простится мне, что я должен говорить такое), — во время его чтения произошло нечто, еще более усилившее общую оцепенелость: писатель вдруг зажестикулировал как-то „дерганно“, перешел на скороговорку... — и... — видимо, лучше не определять наше впечатление, не рассуждать, в какой „дошедшести“ может быть такой „язык“, в отличие от общепринятого».
Поэт Геннадий Айги как-то записал такое воспоминание о своей встрече с Варламом Тихоновичем Шаламовым: «Иван Дмитриевич Рожанский предложил В. Шаламову записать его чтение на магнитофон. Шаламов охотно согласился: он хотел прочесть стихи. Раздались два-три тихих голоса: „Не прочли бы вы вашу прозу“. Варлам Тихонович прочел один рассказ, я не запомнил какой. И вот по какой причине (да простится мне, что я должен говорить такое), — во время его чтения произошло нечто, еще более усилившее общую оцепенелость: писатель вдруг зажестикулировал как-то „дерганно“, перешел на скороговорку... — и... — видимо, лучше не определять наше впечатление, не рассуждать, в какой „дошедшести“ может быть такой „язык“, в отличие от общепринятого».
В этом небольшом отрывке лаконично изложен миф о Шаламове, возникший еще при его жизни, и здесь же он подвергнут потрясающе прозорливому расщеплению. Шаламовский миф строится вокруг исключительности его катастрофического жизненного опыта, переданного в прозе, прежде всего — в «Колымских рассказах». Слушатели Варлама Тихоновича из приведенного отрывка явно хотели приобщиться к тайному лагерному знанию, проговоренному от лица того, кто там побывал и смог вернуться. Стихи Шаламова в этом смысле показались им непригодными для прикосновения к запредельному.
Они ошибались. Шоком для них стала не фактура этого человеческого документа, не его событийный ряд, а сам язык, которым он написан. Исчерпывающее определение такому языку дал сам Шаламов, говоря о солженицынском «Одном дне Ивана Денисовича» — «очень точный и новый, обжигающе новый». Только в таком языке могла существовать литература после «пожаров Хиросимы, позора Колымы и печей Освенцима» (так Варлам Тихонович однажды расширил понятно какой афоризм Теодора Адорно, прибавив к его утверждению жирный знак вопроса). И каждая строчка Шаламова, прозаическая, поэтическая, публицистическая, сообщает прежде всего одно: ее автор больше всего на свете хотел бы, чтобы тот художественный язык, которым эта строчка написана, никогда и ни при каких обстоятельствах не существовал. По этому поводу он напишет в 1958 году, вложив свою мысль в уста казненного при Сталине писателя-«переваловца» Александра Воронского:
«Горький принес пачку книг, изданных в Берлине, Горьким и Гржебиным, и показал Владимиру Ильичу. Ленин взял в руки сборник древних индийских сказок, полистал.
— По-моему, — сказал он, — это преждевременно.
Горький ответил:
— Это очень хорошие сказки.
Владимир Ильич заметил:
— На это тратятся деньги.
Горький: — Это же очень дешево.
Ленин: — Да, но за это мы платим золотой валютой. В этом году у нас будет голод.
Мне показалось тогда, что столкнулись две правды; один как бы говорил: „Не о хлебе едином будет жив человек“; другой отвечал: „А если нет хлеба...“
И мне всегда казалось, что вторая правда, правда Владимира Ильича, сильнее первой правды».
Языку Шаламова, его эстетике, тождественной шаламовской этике, прежде всего и посвящена книга Ксении Филимоновой с сухим, отстраненным и потому максимально подходящим заглавием «Эволюция эстетических взглядов Варлама Шаламова и русский литературный процесс 1950–1970-х годов».
Конечно, большому литературному проекту Шаламова по созданию «новой прозы» посвящено немало качественных исследовательских страниц. В том или ином виде тема эта затрагивается, например, в «Незаконной комете» Елены Михайлик — пожалуй, одной из самых замечательных книг не только в шаламоведении, но и вообще из всех посвященных советской литературе катастрофы. Однако, судя по всему, в монографии Ксении Филимоновой впервые полностью самостоятельной темой становится не что, а как написано в прозе и стихах Шаламова. И наглядно демонстрируется, как форма письма в этих по большей части невыносимо страшных текстах взаимопроникает с их содержанием.
«Опыт литературного творчества после переживания ада невозможно полностью реконструировать в слове, — в частности, пишет Ксения Филимонова. — Шаламов понимал это и на протяжении многих лет искал другой способ передачи чувств и физиологических ощущений заключенных: голода, холода, изнуряющего труда, мокрой одежды, болезней, истощения, побоев, унижения и в конце концов полного равнодушия ко всему, что происходит, безразличия к смерти. Наиболее близкий подход к определению можно описать словами самого Шаламова, который говорил о том, что его рассказы „прокричаны“».
Самая сильная сторона книги Ксении Филимоновой заключается в том, что в ней тщательно реконструируется то, как это «прокрикивание» стало возможным и на чем оно держится, что служит опорами этого прокрика, который не стал бы таким пронзительным, не имея под собой крепких культурных оснований. Мы постоянно забываем о том, что Шаламов, на шестнадцать лет выпавший из земной реальности в адскую колымскую, был чрезвычайно начитанным человеком, свободно ориентировавшимся в классической и современной ему литературе — как советской, так и зарубежной, как официальной, так и полуподпольной, а то и решительно подпольной.
Ксения Филимонова с, не побоюсь этого слова, изяществом (насколько это возможно в строгих академических границах) расставляет акценты на тех авторах, которые были для Шаламова безусловно важны, но при этом едва ли быстро приходят на ум в разговоре о шаламовском мифе. В первую очередь это Борис Пастернак — человек, которого Варлам Тихонович навестил на следующий же день после возвращения с Колымы. Страницы, посвященные тому, как «живой Будда» и Шаламов общались, обменивались мнениями по поводу черновиков «Доктора Живаго» и в итоге прекратили общение, настолько интересны, что воздержусь от грубого пересказа и оставлю читателю возможность ознакомиться с ними самостоятельно. Но все же приведу один случай, на который указывает Ксения Филимонова.
Из романа «Доктор Живаго»:
«Построили широким многоугольником во все поле, спинами внутрь, чтобы не видали друг друга. Скомандовали на колени и под страхом расстрела не глядеть по сторонам, и началась бесконечная, на долгие часы растянувшаяся, унизительная процедура переклички. И все на коленях. Потом встали, другие партии развели по пунктам, а нашей объявили: „Вот ваш лагерь. Устраивайтесь как знаете“. Снежное поле под открытым небом, посередине столб, на столбе надпись „Гулаг 92 Я Н 90“ и больше ничего».
По этому поводу Варлам Тихонович пишет Борису Леонидовичу:
«Никаких столбов там не бывает — ГУЛАГ — это название Гл. управления. Прямоугольник арестантов с лицами наружу — не бывает так. Это незачем — ведь они неизбежно будут работать вместе».
Нетрудно проверить, что Пастернак после этих вроде бы веских замечаний не внес в свою рукопись ни единой правки. От себя могу сделать предположение: в этой переписке для понимания обоих авторов важно не то, что Шаламов объяснил недостоверность текста, а именно то, что Пастернак пропустил мимо ушей указания адресата. Здесь сталкиваются и подсвечивают друг друга две качественно разные традиции: традиционная, ориентированная на художественную убедительность, даже если она не соответствует реальности, и «новая», диктатом которой становятся реальность и ее убедительность как самодостаточная форма художественности. Говоря «это незачем», как мне кажется, Шаламов указывает не столько на то, что описанная сцена не нужна в жизни, а сколько на то, что она не нужна в тексте.
Но вернемся к тому, как в книге Ксении Филимоновой расставлены акценты на том, какого рода литература имела особое значение для Шаламова как читателя. Здесь весьма показательны два пункта. Во-первых, Варлам Тихонович был поклонником того, что в наши дни называется нонфикшеном — в особенности ценил очерки Чарльза Дарвина. Во-вторых, он внимательно и с тотальным принятием следил за актуальными модернистскими опытами писателей тех стран, в которых подобные поиски были легальны, а в советских реалиях — не совсем. Вероятно, Шаламов-читатель, находящийся за железным занавесом, оказывается в куда более выигрышной позиции, чем читатель «с той стороны». Ему как будто яснее видно истинное содержание литературы, которая в «буржуазно-капиталистическом» обществе воспринималась на тот момент по большей части в порядке скандального эксперимента:
«Лучшая художественная проза современная — это Фолкнер. Но Фолкнер — это взломанный, взорванный роман, и только писательская ярость помогает довести дело до конца, достроить мир из обломков».
Или:
«Нобелевский комитет дал премию по литературе за 1969 год Беккету, и это правильно — ибо за Беккетом литературная правда сегодняшнего дня. <...> Победа Беккета, признание Беккета скрывает за собой одну важную черту. Это победа самой жизни».
Или такое — не столь, на мой вкус, бесспорное — суждение:
«Пьеса века — „Носорог“ Ионеско».
Фолкнер, Беккет, Ионеско — вот три совершенно разных автора, которых вряд ли просто так приложишь к Шаламову, но которые, как ни удивительно, близки ему как никто другой. Так, по замечанию Ксении Филимоновой, в куда меньшей степени Варламу Тихоновичу был интересен Лев Толстой: «Упоминая Толстого, Шаламов писал лишь о необходимости экранизации „Войны и мира“ и „Анны Карениной“ для того, чтобы „решить вопрос“, который не решают „Казаки“ и „Воскресенье“. Какой именно вопрос должны были решить экранизации романов Толстого, Шаламов не уточнял».
Особое внимание Ксения Филимонова обращает на один факт из биографии Варлама Тихоновича — вроде бы общеизвестный, но остающийся на втором, а то и третьем планах для читателей и исследователей Шаламова. Это тот факт, что Шаламов на протяжении нескольких лет сотрудничал с журналом «Новый мир»: он был одним из тех несчастных, кто читал все присылаемые рукописи и в обязательном порядке их рецензировал. Воспоминания об этом близки и понятны всякому, кому приходится работать с большими массивами текстов неизвестных ему авторов: «Подчас кажется, что в редакционном аппарате должны быть врачи-психиатры, многое касается их компетенции».
Существенная доля этой прежде незаметной «новомировской» части шаламовского архива собрана в книге Филимоновой в качестве приложения — чтение написанных им внутренних рецензий не менее увлекательно, чем знакомство с каноническим корпусом «нехудожественных» (если это разделение в данном случае применимо) текстов Варлама Тихоновича.
Напоследок хотелось бы заметить: главное свойство монографии Ксении Филимоновой в том, что она дает пример того, как добросовестно проделанная интеллектуальная работа позволяет переосмыслить наши оценки того или иного культурного явления. Ключевое слово здесь — «добросовестно», то есть осмысленно и ответственно.
К сожалению, не раз приходилось мне видеть, как в интернете происходит стихийная переоценка творчества и личности Шаламова, когда публикации, посвященные Варламу Тихоновичу, сопровождаются знаменитой фотографией из следственного дела (РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 167. Л. 12). Которая в свою очередь вызывает бурю ироничных эмоций среди комментаторов, пишущих «красавчик», «хот», «краш».
Подобное спонтанное переосмысление Шаламова вполне естественно и имеет полное право на существование. Но нет ли в этой коллективно-бессознательной гламуризации репрессивного опыта сталинской эпохи? Не в этом ли выражается очевидная потребность в переосмыслении и конечном осмыслении подобного опыта, но — недобросовестная и безответственная?
Подумайте об этом на досуге.