Анна Соколова. Новому человеку — новая смерть? Похоронная культура раннего СССР. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Содержание
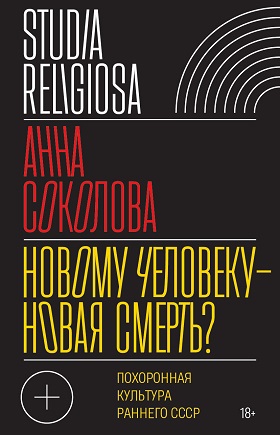 Наши отношения со смертью парадоксальны. Будучи неотъемлемой частью человеческого существования, она постоянно оказывается вытесненной на задворки нашей повседневности — как в прямом, так и в переносном смыслах. Такая ситуация в целом характерна для индустриальных и постиндустриальных обществ, но, как считает Анна Соколова, в современной России тема смерти табуирована гораздо сильнее, чем в других странах. По мнению исследовательницы, причины этого следует искать в тех трансформациях, которые претерпела русская похоронная культура после Октябрьской революции.
Наши отношения со смертью парадоксальны. Будучи неотъемлемой частью человеческого существования, она постоянно оказывается вытесненной на задворки нашей повседневности — как в прямом, так и в переносном смыслах. Такая ситуация в целом характерна для индустриальных и постиндустриальных обществ, но, как считает Анна Соколова, в современной России тема смерти табуирована гораздо сильнее, чем в других странах. По мнению исследовательницы, причины этого следует искать в тех трансформациях, которые претерпела русская похоронная культура после Октябрьской революции.
В России до 1917 года все вопросы, связанные со смертью и умиранием, находились в ведении церкви. Похоронный ритуал был четко регламентирован: публичный вынос тела, похоронная процессия, прощание с усопшим, отпевание и так далее. То, каким именно образом будет похоронен человек, зависело от его конфессиональной принадлежности, рода занятий и положения в обществе. Похороны были «публичным социальным действием», которое позволяло живым примириться с утратой и восстанавливало целостность общества, нарушенную смертью.
Большевики не только вывели похороны из ведения церкви и разрешили проведение гражданских панихид, но и попытались очистить похоронный обряд от религиозной составляющей, «связанной с идеей продолжения жизни за гробом». При этом новая власть не предложила «никакой альтернативной трактовки факта человеческой мортальности и ее преодоления, кроме абстрактной „жизни в памяти потомков”». Соколова отмечает, что эта «суррогатная форма бессмертия получила широкое развитие в советской массовой культуре» и легла в основу торжественных похорон, которых удостаивались генсеки, партийные чиновники, космонавты, генералы, председатели колхозов и прочие высокопоставленные лица. Но такая «мортальная рамка» ничего не могла дать простому советскому человеку, инженеру или комбайнеру, едва ли рассчитывавшему, что после смерти о нем будет вспоминать кто-то помимо ближайших родственников и друзей. В совокупности с урбанизацией, распадом традиционных структур общества и форсированной индустриализацией это привело к тому, что люди перестали понимать, как реагировать на чужую смерть и как готовиться к своей. Соколова называет это явление десемантизацией советской смерти:
...старый обряд перехода был отвергнут как не соответствующий новому пониманию человека, а новый так и не был предложен... общество в целом не выработало механизм, который способствовал бы сохранению связи и воспроизведению социальных структур в ответ на угрозу, которую несет факт человеческой мортальности.
Десемантизация смерти — основной сюжет книги, вокруг которого выстраивается несколько связанных подсюжетов: обрядность «красных похорон», место кладбища в социалистическом городе, строительство и популяризация крематориев, реформы похоронного администрирования. Формально исследование охватывает промежуток с 1917-го по 1940 год, но основной акцент в книге сделан на раннесоветском периоде. Такое решение вполне объяснимо. С одной стороны, к этому времени относятся самые смелые проекты переустройства похоронного дела. Пока энтузиасты трупосжигания мечтали о повсеместном распространении крематориев, архитекторы создавали планы городов, в которых уже не было места кладбищам, воспринимавшимся как осколки «старого мира». С другой стороны, в послереволюционные годы страну охватил настоящий похоронный кризис. Трупы жертв Гражданской войны, голода и эпидемий не успевали не только хоронить, но даже сжигать. Гробы стали дефицитом, их брали напрокат, а иногда даже выкапывали из чужих могил. Соколова приводит запись из дневника киевской студентки за 1920 год:
Смертность поэтому большая, а гробов тоже нет. Недавно на этой почве было такое происшествие: у красноармейца умерли в больнице жена и ребенок. Он почему-то повздорил из-за похорон с милиционером. Тот его смертельно ранил. Убитому и его семье устроили торжественные похороны; гробы были обиты красной материей. После похорон пришла милиция, разрыла могилу и выбросила покойников из гробов, которые забрала.
Исследовательница пишет, что похоронный кризис был вызван не только объективным переизбытком трупов, но и непродуманными решениями новой власти. Реформа 1917- 1918 годов передавала все кладбища в ведение местных Советов, которые должны были теперь оплачивать погребение граждан. В реальности, однако, Советы часто не имели возможности и желания заниматься подобными вопросами, что и привело к дезорганизации похоронного дела.
Муниципализация кладбищ была частью усилий большевиков, направленных на создание социального государства. В этом отношении, считает Соколова, советская Россия двигалась в одном направлении с другими индустриально развитыми европейскими странами, где в XIX-XX веках происходили схожие преобразования в области похоронного дела — правда, не в таких тяжелых условиях и не с такими катастрофическими последствиями. Соколова, вслед за историком Стивеном Коткиным, предложившим свою концепцию социалистической модерности, рассматривает советский проект как модерный по сути, то есть нацеленный на рационализацию жизни и устремленный в будущее. Именно в этом ключе исследовательница трактует многие советские инициативы в похоронной сфере — например, пропаганду кремации, «вершины модернистской программы науки XIX века».
В период НЭПа похоронное дело частично вернулось к дореволюционным практикам (например, некоторые кладбища отдали в аренду общинам верующих), но в конце 1920-х годов, в ходе «великого перелома», была проведена повторная муниципализация, которая оказалась не сильно удачней первой:
Уже к началу 1930-х годов похоронные услуги рядовым советским гражданам было оказывать некому и нечем: фактически советская реформа похоронной сферы провалилась, а место государственной политики заняло низовое регулирование и стихийно формировавшиеся практики. Вторичная муниципализация похоронных служб, заявленная как возвращение к принципам социального обеспечения в похоронной сфере, на практике привела к тому, что основную ответственность за обеспечение похорон рядовых граждан вынуждены были взять на себя семьи умерших. На место похоронных бюро, объединенных в профсоюзы, пришли кустари-совместители, для которых оказание отдельных похоронных услуг было дополнительным заработком.
Помимо этого мы довольно мало узнаем о положении дел в похоронной сфере в 1930-е годы, особенно во второй половине десятилетия. Соколова сетует на разрозненность и фрагментарность документации, относящейся к этому периоду, и заключает, что даже власти плохо представляли себе происходящее в стране. Однако возникает вопрос, почему в таком случае исследовательница не обращается к источникам личного происхождения — например, к дневникам, которые она активно привлекала, рассказывая о 1920-х?
В книге Соколовой перед нами разворачивается масштабная картина раннесоветской похоронной культуры, но в некоторых случаях широта замысла оборачивается поверхностностью исполнения. Так, рассматривая в первой главе практику «красных похорон», она пишет, что «для самих большевиков это было одним из способов конструирования собственной новой идентичности, новой советской субъективности», отсылая к концепции Игала Халфина и Йохана Хелльбека. Соколова обращает внимание на то, что на могилах многих большевиков наряду с датами рождения и смерти была указана дата принятия в партию, но дальше не развивает эту интригующую тему.
Выводы, сделанные на раннесоветском материале, Соколова распространяет на весь советский период. В эпилоге она пишет, что «десемантизация смерти превратилась из локального по времени события сложнейших первых послереволюционных лет, спровоцированного сильнейшими социальными потрясениями и кризисами, в процесс, сформировавший в конечном итоге целую похоронную культуру». Это утверждение явно требует дополнительной проверки. Мне кажется, здесь заметно влияние уже упомянутого Стивена Коткина, который считает, что основные культурные и экономические принципы советского модерного проекта были сформулированы в 1930-е годы и не претерпели особых изменений в послевоенные десятилетия. Соколова в своем анализе похоронной культуры, одной из составляющих советской модерности, во многом воспроизводит ту же схему. Стоит заметить, что концепция Коткина вызвала немало обоснованных замечаний — отсылаю читателей к статье Анны Крыловой.
Однако перечисленные моменты не портят общего впечатления от книги «Новому человеку — новая смерть?» — первого, насколько мне известно, комплексного исследования раннесоветской похоронной культуры. Обратившись к узкой на первый взгляд теме, Соколова написала работу, которая позволяет по-новому взглянуть на советское общество и вносит важный вклад в непрекращающиеся дискуссии историков о том, насколько модерным оно было. Именно в этой способности подняться над отдельными сюжетами и увидеть за ними более широкую картину заключается главное достоинство ее книги, с лихвой окупающее все недочеты.
