Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Костика Брадатан. Умирая за идеи. Об опасной жизни философов. М.: Новое литературное обозрение, 2024. Перевод с английского Е. В. Музыкиной. Содержание. Фрагмент
I will choose death
Spiritual Front, Death
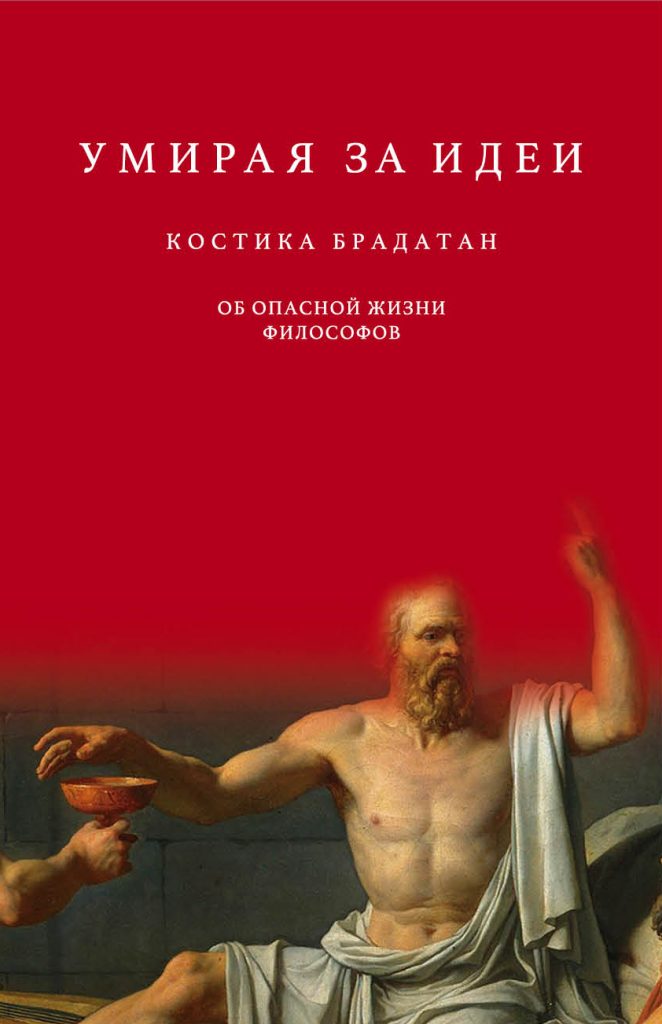 Американский философ румынского происхождения Костика Брадатан в своей небольшой книге «Умирая за идеи», написанной в 2015 году и недавно переведенной на русский язык, ставит своей задачей ни много ни мало сделать «то, что никто не делал ранее: рассмотреть умирающие тела философов как полигон их мышления». Философы, которые пошли ради своих идей до конца, становятся мучениками в глазах последующих поколений, а без разговора о них едва ли возможно понимание смерти как одной из центральных проблем мировой философии.
Американский философ румынского происхождения Костика Брадатан в своей небольшой книге «Умирая за идеи», написанной в 2015 году и недавно переведенной на русский язык, ставит своей задачей ни много ни мало сделать «то, что никто не делал ранее: рассмотреть умирающие тела философов как полигон их мышления». Философы, которые пошли ради своих идей до конца, становятся мучениками в глазах последующих поколений, а без разговора о них едва ли возможно понимание смерти как одной из центральных проблем мировой философии.
Брадатан предлагает начать этот разговор с обращения к «тихой революции», произошедшей в истории мировой философии благодаря работам Пьера Адо — и последовавшим за ним книгам Фуко. В конце ХХ века античная философия раскрылась для нас как «искусство жизни», ремесло, которое необходимо практиковать повседневно, занимаясь медленной, но неуклонной самотрансформацией. Различные техники изменения себя или духовные упражнения, как показал Адо, были выработаны во всех основных философских школах античности. Философия, как пишет Брадатан, «действительно перформативна; она не просто то, о чем вы говорите, а прежде всего то, что вы делаете».
Однако у философов, как добавляет он, следует поучиться не только искусству жить, но и умению правильно относиться к смерти. Жизнь человека, который станет избегать любых упоминаний о смерти, будет разрушена первым же дуновением из загробного мира; с другой стороны, если смерти за вашим столом станет слишком много, вы рискуете ей отравиться. Согласно мысли Монтеня, на которого ссылается Брадатан, «чтобы сделать жизнь жизнеспособной, необходимо найти в ней место для смерти». Чтобы хорошо жить, нужно не только осознать присутствие смерти, но и приручить.
В этой части рассуждения Брадатана и содержательно, и стилически (книга написана рассчитанным на неспециалиста языком, и автор подробно разбирает каждый использованный в ней концепт) можно сравнить с философским сэлф-хэлпом. Однако, в отличие от подобной литературы, носящей обычно жизнеутверждающий характер, книгу Брадатана уместнее было назвать «смертеутверждающий», ведь избранная им тема для рассуждений ближе к Ars Moriendi, чем к тому, как научиться переносить житейские невзгоды у стоиков.
Основные герои его книги, однако, пошли дальше — не просто к приручению смерти, а к превращению ее в свой последний перформанс: «живое, плотское, иногда кровавое представление».
Герои эти таковы.
- Сократ, чья история читателю, думаем, известна.
- Философ и математик Гипатия, жившая в Александрии IV-V веков представительница языческого неоплатонизма, которая в результате конфликта с патриархом города была разорвана на куски толпой христиан.
- Основатель утопического социализма Томас Мор, отказавшийся принести присягу о главенстве английской монархии над церковью и обезглавленный в 1535 году в лондонском Тауэре.
- Сожженный в 1600 году на костре заживо Джордано Бруно, не пожелавший отречься от восьми еретических пунктов своего учения, которые включали в себя среди прочего одобрение использования магии, отрицание божественности Христа, веру в переселение душ и множественность миров.
- Чешский феноменолог, ученик Эдмунда Гуссерля Ян Паточка, участвовавший в создании диссидентского движения Хартия 77 и скончавшийся в 1977 году от апоплексического удара в пражской больнице после 11-часового допроса чехословацкой тайной полицией.
В качестве второстепенных персонажей на просторах книги возникают Симона Вейль, фактически заморившая себя голодом из солидарности с людьми, которые страдали из-за скудного пайка в оккупированной Франции; Мишель Монтень со своим сочинением «О том, что философствовать — это значит учиться умирать» и Боэций, пишущий трактат «Об утешении философией» в заточении перед жестокой казнью. «Седьмая печать» Бергмана прочитывается через посредство католического философа Пауля Ландсберга, размышлявшего о религиозном смысле умирания, а повесть «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого рассматривается сквозь призму философии Мартина Хайдеггера и его рассуждений о неподлинности человеческого бытия.
Брадатан выделяет несколько уровней приближения философа к смерти. На первом, когда философ еще только знакомится со смертью, она представляет для него только теоретическую проблему или затруднительную ситуацию, которую следует обдумать. Ее тень не нависает над деятельностью философа, поскольку конец земного существования кажется отнесенным в неопределеннон будущее. На втором уровне смерть непосредственно соприкасается с телом философа, в ней больше нет ничего абстрактного, и «если философ не может излечить себя от страха, который он, как любое живое существо, испытывает, столкнувшись с неизбежностью своего истребления, то по его собственным стандартам его философия бесполезна».
В случае философов, о которых пишет Брадатан, смерть сделалась кульминацией их философской биографии; событием, без которого она казалась бы незавершенной. Однако, помимо самого акта насильственной и жестокой смерти, философу необходим некто, кто сохранит для потомков его жизнеописание, выстроив из него связный и цельный нарратив: «без Платона не было бы Сократа, без Евангелий не было бы Иисуса Христа». Работа рассказчика очевидным образом заключается не в том, чтобы записать все, что ему известно, а в убийстве «живой, пронизанной противоречиями фигуры философа и превращении ее в героический (литературный) персонаж». Наконец, умирающий философ нуждается в аудитории, которая окажется восприимчивой к его идеям, — и даже если эта публика на первом этапе будет рукоплескать палачу, затем она же станет распространять нарратив о его героической гибели.
При совпадении этих условий философ превращается в мученика. Непоколебимая приверженность своему образу мысли выступает для него тем же, чем же вера в Бога и необходимость спасения своей души — для религиозного мученика и верность избранной идеологии — для мученика политического.
Если же говорить о социальном значении смерти философа, то Брадатан предлагает использовать здесь жирардианскую теорию «козла отпущения», согласно которой механизмом избавления общества от насилия является искупительная жертва. Эта жертва становится драйвером социальных изменений, и если изначально она была совершенно бессильна, то, умерев, «возводится на небывалый уровень власти».
Рене Жирар в качестве «удобоприносимых» жертв выделял военнопленных, рабов, инвалидов, не состоящих в браке, детей или подростков; Брадатан предлагает присоединить к этому перечню категорий находящихся на обочине общества философов.
Чтобы сделать жертвоприношение более эффективным, его зачастую проводят в нарочито жестокой и оргиастической форме: наилучшим примером здесь может служить казнь Гиппатии, которая была разорвана христианами Александрии на куски, разбросанные впоследствии по городу. После принесенной жертвы общество скрепляется и очищается. Более того, жертвенная смерть может стать основанием для чего-то фундаментально нового: как, например, в случае с убийством Рема, начинающим историю Вечного города.
Неслучайно, отмечает Брадатан, некоторые из принесенных в жертву философов воспринимаются нами в качестве основателей целых философских традиций. Гиппатия — в качестве основательницы феминизма; Бруно — антиклерикального свободомыслия; Сократ — всей западной философии как таковой. При этом Брадатан соглашается с тем, что возникающая традиция может серьезно отличаться от идей, за которые философ умер на самом деле. Так, мы едва ли мы можем судить о том, как Гиппатия отнеслась бы к такому явлению как современный феминизм, а разбираться, за что на самом умер встроенный в просвещенческий нарратив Джордано Бруно, начали лишь во второй половине ХХ века.
Здесь хочется заметить, что, для того чтобы мы начали воспринимать смерть философа в качестве финального перформанса, вольно или невольно ставшего продолжением его идей, последнему вовсе необязательно отдавать свое тело на растерзание условным «римским властям». Так, Мишель Фуко становится одной из первых публичных жертв СПИДа, что выглядит логичным концом его исследований отношений власти и сексуальности в теории и на практике; боровшийся с медикализацией общества христианский анархист Иван Иллич умирает от опухоли мозга, которую он отказывается оперировать из-за риска впасть в вегетативное состояние; Ницше, впадая в предсмертное безумие, отбрасывает мрачную тень иррационализма на корпус своих работ. Желающих продолжать этот ряд отошлем к «Книге мертвых философов» Саймона Кричли, вобравшей в себя две сотни историй разной степени поучительности о кончинах представителей всевозможных философских школ.
Конструкция, выстроенная Брадатаном из пятерых мыслителей далеко не первого ряда (не считая, разумеется, Сократа) свидетельствует в пользу того, что философы не слишком-то горят желанием становиться мучениками. Более того, сам подбор фигур, включенных в эту конструкцию выглядит сравнительно произвольным. Автор, конечно, может утверждать, что «гражданская позиция Паточки, как и у Сократа, не только соответствовала его философским взглядам, но представляла их кульминацию и неотвратимый конец», — однако замучен он явным образом был не за феноменологию, а за свою политическую деятельность. Так же и причина смертельного упрямства Мора, отказавшегося признать развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской и создание Церкви Англии, заключалась не столько в философских взглядах, сколько в его католической вере. С другой стороны, в число философов, умерших за идеи, оказываются не включены жертвы нацистского и сталинского режимов — так как их смерть, по всей очевидности, не устраивает Брадатана своей недостаточной «добровольностью» (хотя здесь можно поспорить о том, до какой степени для остальных его героев именно такой конец стал их сознательным выбором).
Как бы то ни было, в период тотального цинизма и нравственной деградации, случившейся на наших глазах с немалым числом публичных интеллектуалов, напоминание о том, что свою жизнь следует проживать (и завершать) в соответствии с выбранными тобой идеями, звучит достаточно освежающе. Жить в полном согласии со своими идеями — и, если понадобится, умереть за них — хочется пожелать и самому Костике Брадатану, хотя, в чем именно состоит круг этих идей (за исключением, собственно говоря, обращения к философии как к искусству умирания), мы сказать пока затрудняемся.
