Придуманная жизнь Анны Лацис
Мария Нестеренко о книге воспоминаний «Красная гвоздика»
 Анна Лацис. Красная гвоздика. М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2018
Анна Лацис. Красная гвоздика. М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2018
Воспоминания Лацис посвящены преимущественно ее театральной деятельности: в Латвии, разных городах России, ученичеству у Комиссаржевского и Евреинова, общению с Мейерхольдом, Брехтом и другими. Мотив красной гвоздики проходит через всю книгу: она появляется, когда мемуаристка пишет о самых значительных событиях своей жизни. Впервые мы сталкиваемся с ней, когда Лацис описывает «политический карнавал» в Риге — это первая веха ее театрально-режиссерской деятельности: «Рижане запрудили улицы, по которым двигалось шествие, облепили балконы, взбирались на крыши. Мальчишки оседлали заборы, забрались на подоконники. Нам бросали красные гвоздики и размахивали красными лентами».
Второй раз — в начале романа с ее будущим мужем Бернхардом Райхом: «Райх стоял у столика с гвоздиками и пристально смотрел на меня. Серые глаза его были печальны. Я решила, что невольно чем-то обидела его, взяла из вазы цветок и сунула за отворот его сюртука. „Мне с вами по пути, — сказал он. — Провожу вас, если не возражаете”. Мы вышли вместе. И с того памятного вечера шли рядом пятьдесят лет…».
Третий — во время похорон Райха: «Хоронили Райха на кладбище Райниса. В руках у меня каким-то образом оказался букет красных гвоздик. Я подошла и один цветок сунула за отворот пиджака Берни [как и в день их решающей встречи — прим. ред.]. Красная гвоздика, как яркая капля крови, заалела на его белой сорочке». Этот образ намекает на определенную «художественность» мемуаров (Анна Нижник, автор послесловия, пишет: «Эта книга — о театре, и сама по себе она театр»). Именно поэтому увидеть «настоящую» Лацис в ее воспоминаниях довольно трудно.
Образ, который создает Лацис в воспоминаниях, вероятно, очень отличается от той, о ком идет речь в книге. Это безукоризненная коммунистка, преданная идее и революционному театру, восхищающаяся СССР и Москвой. Лацис «Красной гвоздики» — театральная деятельница, прожившая яркую жизнь, встречавшаяся с Брехтом и укреплявшая советско-немецкие культурные связи: «Интеллектуалы были недовольны существующим в Германии строем, интересовались происходящим в Советском Союзе, но, не получая правдивой информации, многого не понимали и не принимали».
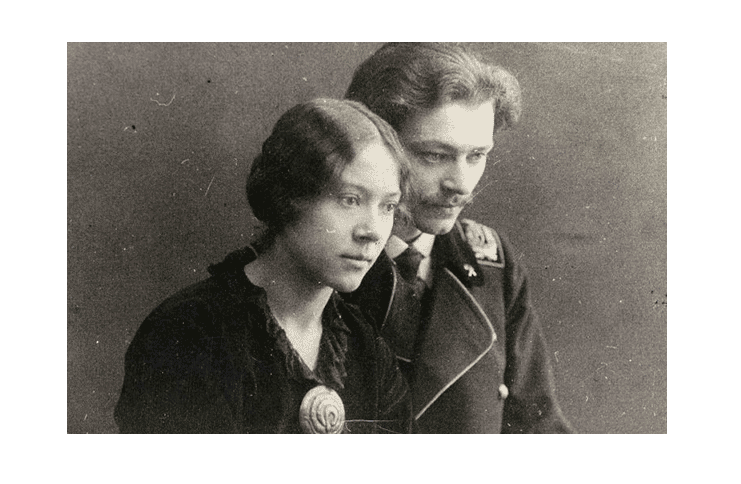
Анна Лацис с ее первым мужем, Юлиусом
Фото: archiv.org.lv
Искусство ее интересовало только революционное. Весьма показателен следующий эпизод: «В Москве гостили Эрвин Пискатор, Леон Муссинак и другие зарубежные деятели искусства. В МХАТе они видели „Дни Турбиных” М. Булгакова. Спектакль гостей огорчил, больше того, они были возмущены: как на сцене советского театра могли поставить пьесу, в которой сквозит явное сочувствие белогвардейцам, врагам Советской власти. Зато „Шторм” они одобрили единодушно: „Вот теперь мы видели революцию, теперь почувствовали, что мы в Москве!”». Лацис поступает хитро: она делегирует оценку спектакля немецким товарищам, сама же не высказывает мнения об увиденном. В примечаниях она пишет: «Сама постановка вопроса представлялась многим критикам в то время непривычной, даже кощунственной. Одно появление на сцене людей в погонах рождало немедленную реакцию протеста». Лацис вновь уходит от прямой оценки — возможно, именно потому что она не совпадала с официальной точкой зрения. Этот же эпизод описан у Беньямина: «У Станиславского шли „Дни Турбиных“. Выполненные в натуралистическом духе декорации необычайно хороши, игра без особых изъянов или достоинств, пьеса Булгакова — совершеннейшая подрывная провокация. В особенности последний акт, в котором происходит „обращение“ белогвардейцев в большевиков, столь же безвкусен с точки зрения драматического действия, сколь и лжив по идее. Сопротивление, оказанное постановке коммунистами, обоснованно и понятно. Был ли этот последний акт добавлен по требованию цензуры, как предполагает Райх, или существовал с самого начала, не имеет значения для оценки пьесы».
 Анна Лацис в детстве
Анна Лацис в детствеВоспоминания Лацис максимально осторожны, если не сказать выхолощены, все острые углы сглажены, даже Беньямина она зовет «добрым другом», в то время как «Московский дневник» рисует совсем другую картину их отношений. В предисловии к одному из его изданий Гершом Шолем писал: «…стержень дневника [Беньямина — прим. ред.] несомненно образуют чрезвычайно сложные отношения с Асей Лацис <…> все люди, видевшие Беньямина и Асю Лацис вместе и рассказывавшие мне об этом, как один выражали свое изумление по поводу этой пары, которая только тем и занималась, что ссорилась. И это в 1929 и 1930 годах, когда она приехала в Берлин и Франкфурт и Беньямин из-за нее развелся!». Шолем явно принимает сторону друга и добавляет, что фрагмент мемуаров Лацис, посвященный Беньямину, «окажется неприятным сюрпризом» (вероятно, потому, что Лацис оставила за скобками все личное — кроме того, что касалось ее мужа Бернхарда Райха).
Конечно, Лацис имела полное право не посвящать будущих читателей в подробности своей личной жизни, тем более что их с Беньямином отношения не были безоблачными. Гораздо больше удивляет тот факт, что в воспоминаниях ни слова не сказано о терроре 1930-х годов, хотя многие из латышских друзей Лацис «исчезли» в 1938-м: в том году многие культурные и политические деятели Латвии были обвинены в «фашистском заговоре латышских националистов». Тогда расстреляли художника-авангардиста Густава Клуциса, упомянутого в книге Линарда Лайцена (скорее всего, он был убит в Москве по тому же делу, а не умер в Латвии, как сообщается в примечании), а 3 февраля 1938 года расстреляли всех актеров театра «Скатуве», в котором служила Лацис. Не менее печальная судьба постигла и других людей, о которых пишет мемуаристка: Мейерхольд, Сергей Третьяков, Владимир Маяковский…
Анна Лацис многого не договаривает и о собственной биографии, о своем аресте она не рассказывает, а как бы намекает: «Наступил 1937 год. Мы с Райхом надолго расстались. В течение десяти лет я руководила клубной самодеятельностью в Казахстане» (туда ее отправили в ссылку). Она также ни слова не сообщает и о том, как был уничтожен театр «Скатуве», и об аресте Райха в 1943 году, хотя то, что сама она не была расстреляна, настоящее чудо. Лацис сообщает лишь о встрече с мужем спустя десять лет: «Я вернулась домой и снова увидела его, до конца осознала — это он, мой родной, любимый человек! Это он, хотя и изменившийся до неузнаваемости… Прошло время, и все, что соединяло нас, вернулось…»

Фото: ubisunt.lu.lv
Прояснить подлинную биографию помогает послесловие, основанное преимущественно на архивных материалах. Анна Нижник цитирует воспоминания ее дочери: «Дочь Лацис Дагмара Кимеле писала: „Мать арестовали 12 января 1938 года. В латышском театре „Скатуве”, где Ася тогда работала, начали арестовывать людей. Об этом громко не говорили, они просто исчезали. Один за другим».
Послесловие показывает, как далека реальная жизнь Лацис от того образа, который создает мемуаристка в «Красной гвоздике». Подлинная биография Лацис трагична: профессия режиссера приносила ей настоящее счастье, но избежать колес тоталитарной машины ей не удалось.
Анна Нижник объясняет авторскую позицию Лацис тем, что театрализация жизни захватила в то время слишком многих: «В узоре судеб людей, живших в ХХ веке, можно видеть не только свободную импровизацию, но и вмешательство не просто режиссера, а сердитого государственного цензора. Эти вмешательства легко увидеть в „Красной гвоздике”: несостыковки и умолчания порой говорят больше, чем приукрашенные ностальгией воспоминания». Многое встает на свои места только после прочтения предисловия. Однако самая большая загадка остается непроясненной: Лацис писала воспоминания уже после смерти мужа, и они вышли из печати, когда самой ее не стало. Что заставило женщину, прожившую бурную и трагическую жизнь, оставлять такие лакуны в мемуарах, написанных в 1970-х годах? Возможно, восьмидесятилетней женщине просто не хотелось даже в воспоминаниях возвращаться в тот мрак и ужас, а может быть, покорившись собственной режиссерской воле, она создала сценарий своей идеальной жизни.