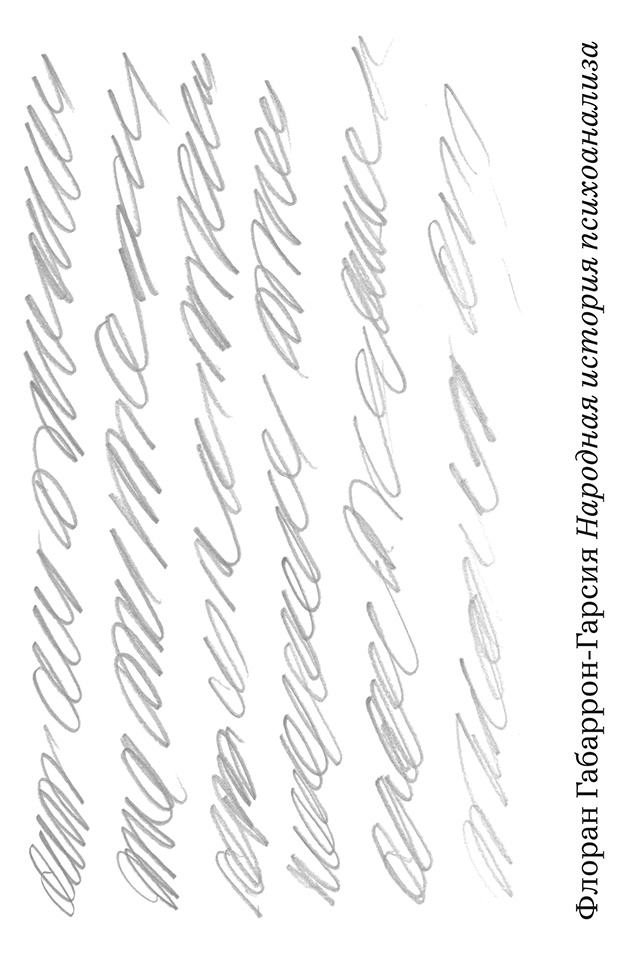Преврати свою болезнь в оружие
О книге Флорана Габаррона-Гарсиа «Народная история психоанализа»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Флоран Габаррон-Гарсиа. Народная история психоанализа. М.: Ad Marginem, 2025. Перевод с французского Дмитрия Кралечкина. Содержание
|
Интуитивно понятно, о чем идет речь в «Народной истории США» и тому подобных работах, наследующих подходу Говарда Зинна. «Народные историки» предлагают взглянуть на исторический процесс не глазами аристократических меньшинств, как нас приучали со школьной скамьи, но тех, кого они подавляли: мигрантов, женщин, рабочих. Ухватить, что предлагается понимать под «Народной историей психоанализа», заметно сложнее, ведь в самой возможности занять место на кушетке аналитика уже ощущается нечто привилегированное: человеку, занятому борьбой за существование, обычно нет дела до своего бессознательного.
Именно этот набор стереотипов о наследии Фрейда как о чем-то, являющимся исключительным достоянием господствующих классов, своей небольшой книжкой и стремится разрушить французский автор Флоран Габаррон-Гарсиа, занимающийся среди прочего исследованием отношений между желанием и революцией и историей психоанализа в Советском Союзе. Габаррон-Гарсиа полностью согласен с тем, что в последние десятилетия «психоанализ стал по большей части глубоко и откровенно реакционным»: с этого безапелляционного тезиса он и начинает свою книгу. В рамках утвердившегося положения дел любой политизированный психоанализ дискредитирован, от аналитика требуют принципиальной нейтральности, а события мая 1968-го, когда раскрепощенная сексуальность выплеснулась под красными флагами на парижские улицы, клеймятся как полное непонимание фрейдистских идей или даже «анальная регрессия». В противоположность этой традиции Габаррон-Гарсиа отказывается быть неангажированным политически — и ожидать иного было бы странно от человека, сотрудничавшего с шизоаналитическим журналом «Химеры» и работавшего в знаменитой больнице Ла Борд, которую в 1953 году друг Лакана Жан Ури основал при поддержке Феликса Гваттари.
Противники левого психоанализа зачастую ссылаются на позднюю книгу Фрейда «Неудовлетворенность культурой» (1930), где тот осудил коммунизм и представил репрессивную функцию культуры по отношению к индивиду как то неизбежное зло, без которого существование общества невозможно. В свою очередь, Габаррон-Гарсиа настаивает, что помимо этих постулатов, проникнутых антропологическим пессимизмом, из психоаналитических предпосылок нетрудно сделать и прямо противоположные выводы, основанные на вере в прогресс и равенство. Их делали некоторые из последователей Фрейда уже на этапе становления психоанализа — и не только делали, но и проверяли на практике, как поступила в частности Вера Шмидт, пойдя на эксперимент по созданию в большевистской России революционного во всех смыслах этого слова детского дома. Более того, сам Фрейд отстаивал прогрессистские взгляды, «положительно оценивая даже коммунизм, по крайней мере вплоть до 1927 года».
Итак, внутри психоаналитического движения начала ХХ века существовала пусть и не доминирующая, но чрезвычайно важная революционная тенденция, которая затем по причинам политического характера начала замалчиваться его историками. Фактически с крайне левым психоанализом была осуществлена операция, аналогичная вытеснению, — и Габаррон-Гарсиа считает теперь своим долгом как аналитика вернуть вытесненные воспоминания в сознание субъекта.
Как связаны психические (и соматические) болезни, переживаемые нами, с тем социальным строем, при котором мы живем, — и возможно ли по-настоящему излечиться от первых без революционного изменения второго? Каким образом в тяжелейшие дни нацистской оккупации становится возможным союз марксизма, психоанализа и поэзии и как вести эффективную терапию в грязи концентрационного лагеря? Не является ли мнимый отказ психоанализа от притязаний на политическое переустройство общества на самом деле идеологически заряженным конструктом — и если да, то кем и при каких обстоятельствах этот конструкт был сформирован? Всегда ли собственное желание субъекта влечет его при объединении с другими индивидами в группы к построению очередной миниатюрной диктатуры — или клиника может стать той лабораторией, где создается модель по-настоящему эгалитарного человеческого общежития?
Вот те вопросы, которыми эта книга предлагает задаться, а вот каковы ее герои. Ересиарх леворадикального психоанализа и лидер «Ассоциации пролетарской сексуальной политики» (Секспол) Вильгельм Райх. Принимая у себя в венской поликлинике любых «людей с улицы» — «бедных и одиноких матерей, девушек, становящихся жертвами сексуальных домогательств, безработных рабочих на грани самоубийства», — Райх недоумевал и возмущался тем, как его коллеги предпочитали не замечать, что за неврозами, терзающими их пациентов, стоят не столько детские травмы, сколько вполне конкретные экономические причины. Он настаивал, что буржуазная психология ставит предмет своего изучения с ног на голову, ведь гораздо больше вопросов вызывает не тот факт, почему отдельные индивиды асоциальны, а то, почему все остальные реагируют на репрессию смирением: «Фундаментальная проблема качественной психологии заключалась не в том, почему голодный ворует, а, напротив, в том, почему он не ворует». И все эти построения не оставались пустым теоретизированием, но вызывали живейший интерес у десятков тысяч рабочих: численность того же Секспола за несколько месяцев с 20 000 участников выросла вдвое.
Психоаналитик марксистского толка и феминистка Мари Лангер. Будучи участницей Венского психоаналитического общества и активисткой подпольной коммунистической партии, Лангер оказалась поставлена старшим поколением аналитиков, не терпевшим политической ангажированности молодежи, в ситуацию необходимости выбора между продолжением активистской деятельности и профессиональной самореализацией. Этого выбора она предпочла не делать и покинула Вену, присоединившись в Каталонии к революционным интербригадам (что фактически спасло ей жизнь, поскольку, оставшись в Австрии, она была бы обречена на уничтожение как еврейка). Позднее, уже в Южной Америке, будучи участницей диссидентской психоаналитической Plataforma Argentina, Лангер продолжала линию Райха, добиваясь, чтобы ее пациенты наряду с осознанием своего психического конфликта «приобрели и классовое сознание», а пациентки — понимание своей подчиненности мужчинам.
Каталонский психиатр и психоаналитик Франсуа Тоскейес, с 15 лет состоявший в Рабоче-крестьянском блоке и уже в возрасте 24 возглавивший сеть психиатрических отделений, действующую в условиях военного времени на арагонском фронте. Анархо-коммунистическая среда, к которой Тоскейес принадлежал, отрицала необходимость разделения труда, и сам он станет избегать «буржуазной» фигуры профессионального психиатра, предпочитая вместо этого организацию терапевтического сообщества «из народа»: «Я выбирал адвокатов, которые боялись войны, но никогда не имели дела с душевнобольными, художников, литераторов, проституток. <...> Некоторые из этих проституток в мгновение ока переквалифицировались в медсестер. Удивительно, не правда ли? И словно благодаря своему практическому опыту общения с мужчинами они знали, что все на самом деле сумасшедшие, даже те мужчины, что ходят по проституткам, и их профессиональное обучение шло очень быстро».
Эти же принципы и навыки Тоскейес возьмется использовать при создании психиатрического отделения в концентрационном лагере Сен-Фон, куда французское правительство интернировало сотни тысяч беженцев из павшей испанской республики, и работе в психиатрической больнице Сент-Альбана, превратившейся в тайное убежище для бойцов Сопротивления. И этот же опыт в скором времени переймет у него молодой Жан Ури, от фигуры которого Габаррон-Гарсиа переходит к экспериментам по подрыву психиатрической власти, поставленным в Ла Борд Феликсом Гваттари.
И наконец, отдельная глава книги посвящена «Социалистическому коллективу пациентов», объединившему больных и врачей по инициативе доктора Вольфганга Губера в психиатрическом отделении университетской поликлиники Гельдерберга. СКП, как настаивает Габаррон-Гарсиа, не занималась ни критикой психиатрических институций, ни антипсихиатрическими практиками; вместо этого она политизировала сам «вопрос болезни, не ограничиваясь одной лишь психиатрией». Смелость их концепции, заявленной в брошюре с названием «Как сделать из болезни оружие», заключалась в бескомпромиссном заявлении: никакой политически нейтральной медицины не существует; аппарат здравоохранения идеологически индоктринирован; болезнь — это продукт капитализма, а не его побочный эффект. Речь здесь идет отнюдь не только о психическом заболевании, ведь, как описывал Франц Фанон, борьба за освобождение Алжира «исцеляла» пациентов от таких соматических недугов, как язвы и искривление позвоночного столба, являвшихся в подобной оптике своего рода «стигматами», оставленными на их телах колониальной машиной эксплуатации. Именно СКП являлся самой политически ангажированной из критиковавших институциональную психиатрию групп в европейских странах, и именно его ангажированностью объясняется, по Габаррону-Гарсиа, то, насколько жестоко он был подавлен вплоть до тюремного заключения для активистов и применения пыток.
Когда эгалитарные практики индивидов и групп, о которых пишет Габаррон-Гарсиа, вступают в противоречие с интересами их более осторожных коллег, в действие вновь и вновь вступает один и тот же паттерн, сформировавшийся еще в тридцатые годы прошлого века в связи с необходимостью уберечь психоаналитическое движение от наступающей угрозы нацизма. Именно тогда Фрейд, разошедшийся во взглядах с большинством своих коллег, но поддержанный уэльским психиатром Эрнестом Джонсом (который в дальнейшем закрепит собственную версию истории психоаналитического движения в трехтомной биографии его отца-основателя), решит, что «существование психоанализа, воплощенного в организации» следует продолжать даже в Третьем рейхе. Чтобы психоанализ был спасен от репрессий со стороны нацистского государства, его жизненно необходимо деполитизировать. Таковая «деполитизация», начавшаяся тайным исключением Райха из Международной психоаналитической ассоциации в 1933 году, продолжилась изгнанием всех евреев из берлинского института и даже запретом для аналитиков заниматься терапией политически ангажированных пациентов. Была ли стратегия, избранная Фрейдом и Джонсом, действительным приближением к политической нейтральности психоанализа или просто унизительным мельтешением перед нацистами, которым приходилось доказывать, что психоаналитические идеи не являются «иудеомарксистской пачкотней»? Стали ли эти меры для психоанализа спасением или черным пятном на его репутации? Ответ на этот вопрос представляется очевидным.
Именно в этом и заключается главный урок, который хочется вынести из книги Габаррона-Гарсиа, и отнести его можно отнюдь не только к истории психоаналитического движения. Каждый раз, когда от вас требуют отказаться от излишней политизации того, чем вы заняты, результатом этого станет не эфемерная ситуация нейтралитета, в которой все убеждения вынесены за скобки, а подъем крайне правых. Каждый раз, когда вам говорят, что левые зашли в своих требованиях слишком далеко, — это значит, что охранители собираются воспользоваться вашей слабостью и качнуть маятник в свою сторону гораздо дальше. Каждый раз, когда вы идете на компромиссы с собственной совестью и рассуждаете о том, что сохранение институтов важнее принципов, на которых эти институты были построены, вы льете тем самым воду на мельницу наступающего фашизма. А в фашизме, как все мы имели возможность убедиться за последние годы, нет и не может быть ничего хорошего.