«Похоже на наши дни, не правда ли? И так же грустно…»
Интервью с Натальей Ивановой о Юрии Трифонове
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— С чего началось ваше знакомство с творчеством Трифонова? Каким было ваше первое впечатление от его текстов?
— Знакомство началось с повести «Обмен» в «Новом мире» — значит, на грани 1969-1970-го, в том случае, если номер журнала вышел в срок, номера из-за вмешательства Главлита, то есть цензуры, часто задерживались (№ 12, 1969 — исторический номер журнала, последний, подписанный Твардовским). Дочитав, я вернулась к началу, потому что из современной, «текущей», как тогда говорили, словесности это было лучшее, — как свежеиспеченная аспирантка филфака МГУ, я была погружена в русскую классику, а кафедру советской литературы с ее тогдашним набором мы (наш семинар = мои друзья) обходили стороной. И тут сразу желание — перечитать пристально. Откуда безнадежность и безыллюзорность в обыкновенном вроде бы, но пронизывающем исторические пласты от нэпа, 1930-х, каторги — сюжете? И как это сделано? Только потом прочла в опубликованных после 1987-го воспоминаниях Трифонова, что «цензура подержала в зубах — и выпустила». Все-таки подержала.
Это было первым впечатлением, поддержанным следующей, через год появившейся повестью «Предварительные итоги». И там вроде конец хороший — герой выздоровел и даже «поиграл в теннис». А хочется удавиться. Критика (я и тогда ее читала) этих повестей не одобрила — я слышала учиненный коллегами разнос на обсуждении с участием автора в Малом зале ЦДЛ, куда я проникла правдами и неправдами (в зале было полно людей, народ волновался, поместится ли, вход строго по пропускам только членам Союза писателей). На Трифонова, сидевшего впереди узкого зала вместе с ведущим обсуждение, кажется Вениамином Кавериным, пытавшимся охладить страсти, нападали, что произвело на меня впечатление, с либеральной стороны. Мол, быт, быт, люди изображены неприятные, и вообще узкий взгляд на нас, интеллигенцию, сколько можно нас принижать? Я по своему темпераменту не выдержала — и прорвалась не только в зал, но и к микрофону. Защитила как смогла. Ничего тогда еще не писала, так что защита осталась устной. Потом она стала книгой.
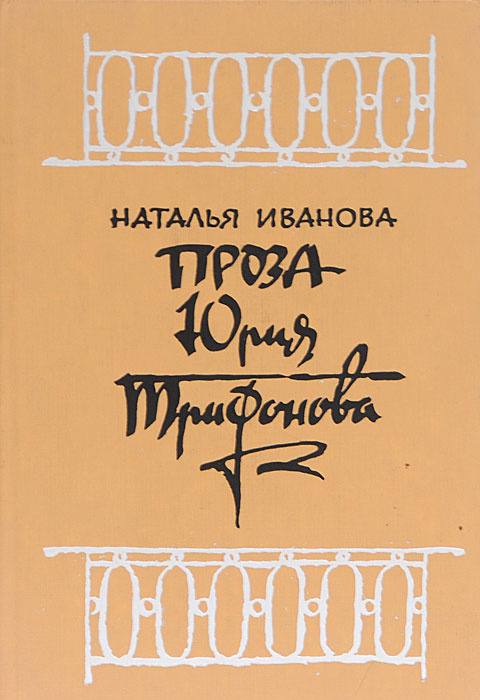
— Вы с Трифоновым уже несколько десятилетий. Менялось ли ваше отношение к его произведениям? Бывало ли так, что в какие-то периоды он становился для вас чрезвычайно важным, а в какие-то вы к нему остывали?
— К защите письменной я перешла на третий день после прощания с Трифоновым — уже в ресторанном зале ЦДЛ, большого зала ему не предоставили, не номенклатура. Людей пришло очень много, сотни, молчаливая людская очередь с хризантемами и гвозди́ками начиналась сразу на улице Герцена, теперь Большой Никитской. Проходили через два фойе, нижнее и верхнее, потом сквозь кафе «Пестрый зал», узкий коридор, и потом уже надо было идти через ресторан, где под витражным окном в углу был установлен гроб. Непривычный облик — без очков. Началась гражданская панихида, и я смогла задержаться. Что-то официальное нес фальцетом Феликс Кузнецов, московский секретарь. Выступил Анатолий Рыбаков — что Трифонов был большой, настоящий русский писатель и умер как настоящий писатель, там, где умирают рядовые читатели, на простой больничной койке. А потом я вышла на залитую мартовским солнцем улицу Воровского и поняла, что надо что-то делать самой. Нет, не некролог писать, — куда я могла? Никто, и звать меня никак. А сразу книгу. Тогда книги о писателях выпускала редакция критики и литературоведения издательства «Советский писатель». Через несколько дней просто туда пришла, можно сказать, с улицы, и предложила свой замысел. Елена Конюхова, тогдашний зав, вместе с коллегами обсудили и сказали: пишите, приносите, как сделаете, договора не будет. А я и не рассчитывала — только хотела «заявить тему».
Книгу — «Проза Юрия Трифонова» — приняли. Писала я ее в Дубултах, где видела Трифонова еще лет за пять до того; цензура держала верстку в зубах девять месяцев. Две главы хотели убрать напрочь, в остальном — много подчеркиваний красным... Но редактор книги, замечательная и смелая Галина Великовская, впоследствии редактор виноградовского «Континента», отстояла книгу, предложив тактику, благодаря которой удалось пройти через эти узкие врата с минимальными потерями. И книга вышла тиражом 10 000 экземпляров.
Вернемся к вашему вопросу.
Мое отношение к прозе Трифонова укреплялось по мере появления все новых вещей — и каждый раз он не только подтверждал, но опережал мои ожидания, от повести к повести, к «Дому на набережной», пожалуй самой сильной из повестей. Вообще годы застоя, длинные 1970-е, для него стали акме, это был полнокровный расцвет через преодоление обстоятельств нашего места и времени. И эссе его, изредка появлявшиеся, я читала очень внимательно, дополняя вынужденные (само)цензурой разрывы и пустоты. Что касается раннего Трифонова, то я прочла «Студентов» после статьи Вадима Кожинова — ну и увидела передергивание чисто историко-филологическое, нас этому не учили... И параллель с Вадимом Глебовым, стремящимся к женитьбе на дочери профессора, и с обломом замысла немедленно в голове возникла. Все срифмовалось, Ермилов с Ганчуком и т. д.
— Если говорить о генеалогии прозаика Трифонова, то у кого он учился, на ваш взгляд, кому наследовал?
— В Литинституте он учился в семинарах Константина Федина и Константина Паустовского — а после назвал руку одного учителя «рукой импотента» (в романе «Время и место»), а о прозе второго написал: «пахло мокрыми заборами».
Итак: Чехов прежде всего, и навсегда. Бунин — удалось купить старое издание в букинистике в 1946-м! Любимое — «В Париже». Достоевский «Бесы». Толстой «Крейцерова соната» и «Смерть Ивана Ильича». Уроки пристального чтения американской прозы — Хемингуэя, Фитцджеральда, это для меня очевидно. «После Чехова нельзя писать пошло. После Достоевского нельзя писать не всерьез. После Булгакова, Платонова, Бабеля, Пильняка нельзя писать примитивно».
— Корректно ли говорить, что какая-то часть наследия Трифонова остается актуальной, а какая-то («Студенты», «Утоление жажды», «Нетерпение») необратимо устарела?
— «Студенты» представляют интерес для исследований эстетики позднего соцреализма — «Утоление жажды» дает представление о том, как писатель ее преодолевает или думает, что преодолевает, через производственно-психологический роман. С «Нетерпением» другое дело — это роман о народовольцах как вынужденных преступниках, и его надо читать с послесловием для немецкого перевода «Нечаев, Верховенский и другие», в параллель с «Бесами», с комментарием. Помню шок от первой фразы (напомню, напечатано в «Новом мире» в 1973-м): «К концу семидесятых современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна». И помню коктебельский пляж, где я эту фразу прочитала, и помню, как голубая обложка журнала перемещалась по рядам отдыхающих писателей. И переходила из рук в руки.
— Спорт, насколько можно понять, был предметом серьезного интереса писателя. Если пофантазировать, насколько был бы интересен ему нынешний спорт?
— Спорт был вынужденным выходом — это первое. Обошлось бы и без него, ежели бы не обстоятельства, вытеснившие из оттепельной «большой литературы» на обочину (сталинский лауреат все-таки — это большой урон репутации после Сталина. Дай дорогу другим!). Но. Юрий Трифонов нашел свой ракурс — через человеческое измерение. Вот рассказ «Победитель» — встреча со столетним участником Олимпийских игр, участником, не чемпионом. Но этот участник пережил всех чемпионов — действительно победитель! «Прозрачное солнце осени», прекрасная проза, нет, не о тренере, хотя о нем, — об уникальности жизни и благородстве человека. Просто тренера, провинциального. И все-таки поздний рассказ «Недолгое пребывание в камере пыток» он начнет так: «Ранней весной 1964 года, когда я еще болел неизжитой любовью к спорту, вел таблицы чемпионатов, знал на память лучших игроков „Фьорентины“ и „Манчестер Юнайтед“, когда мне казалось, что о спорте можно писать так же всерьез, как, скажем, о гробнице Медичи во Флоренции, когда я только что выпустил легендарный фильм о хоккее и не испытывал никакого стыда...» — кажется, все ясно сказано.
Про сегодняшние спортивные дела писать бы не стал. Предположим, он дожил до ста лет и сохранил живой ум и дар, известны такие феноменальные случаи — например, Людмила Черная, написавшая новую книгу и издавшая ее в «НЛО», — но Трифонов ушел от спортивной темы до сорока лет и более к ней не возвращался, за исключением воспоминания о поездке на игры в Австрию в рассказе, написанном отнюдь не в связи со спортом. А вообще представить его дожившим до времен перестройки, а потом в годы 1990-е: гласность, свобода слова, отмена цензуры и прочее, и опять время назад, вентиль перекрыт... Вот он вставляет в рассказ — как бы между прочим — микроновеллу про Чехова, дожившего до войны и эвакуации. «Ведь Антон Павлович мог бы до Чистополя узнать многое, о чем бедная Ольга и помыслить не смела». Нет, увольте.

— Семидесятые — это время религиозных исканий определенной части советских людей. Насколько этот поиск был Трифонову интересен? Какими вообще, если об этом можно говорить, были его отношения с религией и людьми религиозными?
— Интеллигентские «религиозные искания» 1970-х он описал иронически и даже с неприязнью — смотрите в конце «Другой жизни» линию (страницы) с появления на обочине жизни героя, сорокалетнего историка Сергея Троицкого, некоей Дарьи Мамедовны. Сеансы спиритизма, стаканчик оживает и прыгает по столу. Дух отца Паисия. Какая-то психография. От безвыходности. От отсутствия воздуха. От невозможности сказать, произнести вслух — даже жене! — что ему открылось в списках охранки... Отсюда бегство в мистицизм. Похоже на наши дни, не правда ли? И так же грустно.
Трифонов, конечно, немножко перебирал в своей иронии — и по отношению к таким эксцентричным персонажам из «творческой интеллигенции», как Георгий Гачев (прототип Гартвига из «Предварительных итогов»). Слово «белибердяевщина» было пущено Трифоновым в оборот пораньше доступности Бердяева. Наверно, зря — не мог удержаться. Но «религиозные искания» городских интеллигентов порой превращались в приобретение иконы за килограмм копченой колбасы на Русском Севере.
На его отношение к религии есть разные точки зрения: исследовательница из США, славистка и монахиня, в миру Татьяна Спектор выступила на первой и пока единственной Трифоновской конференции в РГГУ в 1999 году с докладом на эту тему — о присутствии евангельской проблематики в прозе Юрия Трифонова. К сожалению, выпущенный по следам той конференции сборник я не смогла найти у себя. Сама организовала и конференцию, и собрала-выпустила по ее следам книгу — вместе с удивительным исследователем жизни и творчества Трифонова Александром Павловичем Шитовым, составившим библиографию Трифонова, автором книги «Юрий Трифонов: Хроника жизни и творчества. 1925–1981» (Екатеринбург, 1997), а также соавтором совместной с замечательным историком Василием Дмитриевичем Поликарповым монографии «Юрий Трифонов и советская эпоха. Факты. Документы. Воспоминания» (Москва, 2006).
А если о христианском подтексте, о библейских мотивах — здесь есть о чем размышлять и думать. Впрочем, эти мотивы есть у всех писателей, выросших внутри иудео-христианской культуры, несмотря на попытки ее уничтожения в советские годы. Прорастает внутри выросших, даже через отрицание.
— Кого из нынешних литераторов вы могли бы назвать заочными учениками или наследниками Трифонова?
— Назвать кого-то учениками школы Юрия Трифонова? Учеником не назову — но определенная близость к нему у Владимира Маканина, скажем, есть. (Кстати, именно Владимир Маканин, служивший тогда в «Советском писателе», был редактором последней прижизненной книги Юрия Трифонова, выпущенной этим издательством.) В «Портрете и вокруг», повести «Один и одна», в рассказах «Ключарев и Алимушкин», «Человек свиты» и других Маканин разыгрывает, по-своему, конечно, вариации на близкие темы, но намного жестче. Трифоновско-чеховские мотивы у Маканина остаются, но подожженные огнем иронии. Трифонова записывали в предшественники «городской прозы», ну это ладно, — а вот про «прозу сорокалетних» рука не поднимается. Но поднялась же она у Александра Проханова — а по его следам и у Захара Прилепина — записать Проханова последователем-учеником Трифонова! Только потому, что в далекие годы молодому Проханову Трифонов, ведший семинар в Литинституте, написал предисловие. Никогда его не перепечатывал — в отличие от других эссе, входивших в трифоновские книги. Никогда не поддерживал. И никогда не ободрял. Следы понимания и продолжения трифоновской прозы вижу в повестях Максима Осипова с их высокой этической планкой.
А еще трифоновские мотивы перешли в городскую беллетристику, спустились в низкие жанры, сериалы и т. д. — впрочем, это закон литературы. Жуткие экранизации. Кроме отдельно стоящего «Долгого прощания» режиссера Урсуляка с Полиной Агуреевой. Ну а фразу-окончание трифоновской повести, того же «Долгого прощания», взял для финала фильма «Мой друг Иван Лапшин» Алексей Герман — и звучит она там очень уместно.
— Если бы вас спросили, с каких текстов Трифонова нынешним двадцатилетним стоит начинать знакомство с ним, что бы вы порекомендовали?
— Знакомство с Трифоновым я бы рекомендовала начинать с цикла рассказов «Опрокинутый дом». И потом двигаться через «Дом на набережной» к сложноустроенному роману «Время и место».