Повседневность террора: о «Метрополе» Ойгена Руге
Рецензия на новый роман о сталинском 1937-м
Ойген Руге. Метрополь. М.: Логос, 2020. Перевод с немецкого Елены Штерн
 «Метрополь» — новый роман немецкого писателя Ойгена Руге. Он продолжает тему «семейной истории», начатую его предыдущей книгой «Дни убывающего света» (2011). В этом полуавтобиографическом произведении Руге изобразил жизнь четырех поколений семьи из ГДР, списанной с его собственных родных. В «Метрополе» писатель уходит еще глубже в семейное прошлое и на этот раз обращается к небольшому эпизоду из биографии своей бабушки Шарлотты и дедушки Ганса (в книге он назван Вильгельмом) — немецких коммунистов, работавших на Коминтерн. После прихода нацистов к власти они бежали в СССР, а в 1936 году во время очередной чистки их отстранили от разведывательной работы. Шарлотта и Ганс провели 15 месяцев в гостинице «Метрополь» в ожидании ареста.
«Метрополь» — новый роман немецкого писателя Ойгена Руге. Он продолжает тему «семейной истории», начатую его предыдущей книгой «Дни убывающего света» (2011). В этом полуавтобиографическом произведении Руге изобразил жизнь четырех поколений семьи из ГДР, списанной с его собственных родных. В «Метрополе» писатель уходит еще глубже в семейное прошлое и на этот раз обращается к небольшому эпизоду из биографии своей бабушки Шарлотты и дедушки Ганса (в книге он назван Вильгельмом) — немецких коммунистов, работавших на Коминтерн. После прихода нацистов к власти они бежали в СССР, а в 1936 году во время очередной чистки их отстранили от разведывательной работы. Шарлотта и Ганс провели 15 месяцев в гостинице «Метрополь» в ожидании ареста.
Бабушка никогда не рассказывала о своем пребывании в Советском Союзе («ты была уверена, что она [эта история] никогда не увидит свет»), поэтому любопытному внуку пришлось совершить путешествие в Россию, чтобы, изрядно настрадавшись от архивных работников, наконец добраться до ее личного дела.
«Метрополь» — хроника тех 15 месяцев и предшествовавших им событий, реконструированная или, вернее сказать, сконструированная Руге на основании архивных материалов и рассказанная через истории трех участников событий: самой Шарлотты, репрессированной немецкой коммунистки Хильды Таль и судьи Василия Васильевича Ульриха, председательствовавшего на Московских процессах в годы Большого террора.
Почти все персонажи и основные детали книги не были вымышлены. Руге взял за основу реальный сюжет из биографии своей бабушки и, как он сам пишет, «прикинул», как могли бы размышлять, разговаривать и вести себя в повседневных ситуациях те, чьи имена он обнаружил в архивных документах.
Основную часть «Метрополя», где действие происходит в сталинской Москве, обрамляют пролог и эпилог, в которых Руге рассказывает об идее книги и сборе материалов для нее. Однако провести четкую грань между двумя режимами письма («документальным» и «вымышленным») не получится. Руге помещает в «вымышленную» часть книги тексты архивных документов (фотокопии с грифом «строго секретно» прилагаются), а иногда напрямую обращается к читателю. Так происходит, например, в эпизоде с появлением Лиона Фейхтвангера — Руге понимает, что читателю оно может показаться слишком неожиданным и спешит уверить, что «бывают случаи, когда правда одерживает верх над любой вероятностью».
В прологе Руге описывает Российский государственный архив социально-политической истории, где хранится фонд Коминтерна. Архитектурой он не впечатлен: «Это неуклюжее строение 20-х годов, несколько напоминающее саркофаг, в который одели печально знаменитую Чернобыльскую АЭС. Но здесь, в центре Москвы, захоронены не радиоактивные отходы, а часть истории Советского Союза». К тому же между Руге и личным делом его бабушки встают преграды вроде полицейского, требующего propusk на входе, и строгих правил заведения, из-за которых писателю приходится несколько месяцев ждать копии необходимых документов.
 Гостиница «Метрополь». Стены шахты лифта
Гостиница «Метрополь». Стены шахты лифта
В 2001 году Винфрид Зебальд — еще один писатель, размывающий грань между фактом и вымыслом, — опубликовал роман «Аустерлиц», рассказывающий об искусствоведе Жаке Аустерлице, чьи родители бесследно исчезли в нацистских лагерях смерти во время Второй мировой. На протяжении тридцати лет Аустерлиц ездит по Европе, пытаясь найти хоть какие-то их следы. Он оказывается в только что построенном здании Национальной библиотеки Франции, которая, несмотря на внушительный размер, совершенно бесполезна в его поисках: «Новое здание библиотеки [...] направлено на то, чтобы вытеснить читателя как своего потенциального врага, — оно [...] являет собой официально санкционированную демонстрацию все более настойчиво заявляющей о себе потребности положить конец всему, что так или иначе питается жизненными соками прошлого».
Две книги сближает не только мотив поиска семейного прошлого, но и заложенное в них неприятие «официальной» версии истории и тех, кто призван ее поддерживать. Что примечательно, и Жак Аустерлиц, и рассказчик в «Метрополе» ведут свой поиск в рамках событий, «признанных» в качестве трагедий (к Холокосту, впрочем, это относится в большей степени, чем к Большому террору). Иными словами, пафос их борьбы заключается не в «переписывании истории», а в попытке вернуть себе право на ту часть большого нарратива, которая принадлежала когда-то им самим или их семьям. И выбор способа изложения материала в этом случае играет большую роль.
По странному стечению обстоятельств, зимой 1936–1937 годов в соседнем с Шарлоттой и Вильгельмом номере действительно проживал Лион Фейхтвангер — один из почетных гостей Второго Московского процесса. В самом тексте книги Фейхтвангер мелькает всего несколько раз, да и то в основном в чужих разговорах и размышлениях. Он скорее тень, нависшая над зимней Москвой, присутствующий в отсутствии. («Но что если об этом деле услышит Фейхтвангер?» — сам себя вопрошает Василий Васильевич). Уже в эпилоге Руге называет «Москву, 1937», написанную Фейхтвангером по итогам своего визита, «эвфемистическим памфлетом», которым писатель «увековечил позор своего падения». Впрочем, Фейхтвангер — не единственный, кто оставил отчет о событиях того времени. Отец Руге Вольфганг (он также появляется в основном тексте книги) в 1930-е годы жил в Москве, был репрессирован, а после возвращения в Восточную Германию стал крупным историком рабочего движения. Вольфганг написал книгу воспоминаний «Земля обетованная», но Руге отмечает, что она полна неточностей. Как и Фейхтвангер, он «попался в ловушки своих маленьких легенд» (конечно, цена их ошибок несоизмерима).
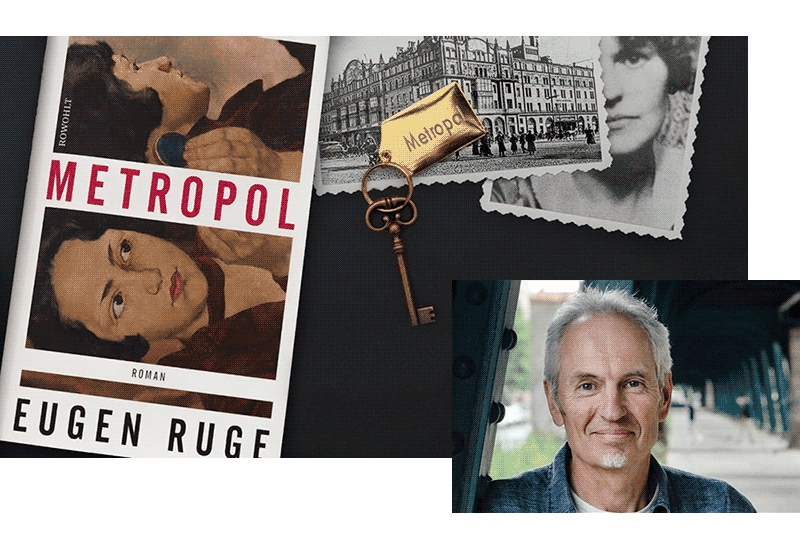 Ойген Руге
Ойген Руге
И Фейхтвангер, и Вольфганг Руге по крайней мере предполагали, что пишут «так, как оно было на самом деле», однако же нам напоминают: «У автора документальной книги тоже некая предвзятость». У Руге в распоряжении множество документов, с которыми он, судя по всему, довольно аккуратно работал, но писатель все равно выбирает фикшн. Такое решение свидетельствует о той девальвации, что давно уже постигла документальное письмо с его претензией рассказать «правду» о том или ином событии. Поэтому когда Руге пишет, что указывает на допущенные отцом искажения «не для того, чтобы показать свое превосходство над ним», он отнюдь не лукавит. Его притязания совершенно иного порядка.
Историк Хейден Уайт (тот самый, что в «Метаистории» указал на литературную природу исторического нарратива) заметил, что способ письма, выбранный Зебальдом в «Аустерлице», позволяет говорить о травматических событиях, которые невозможно адекватно осмыслить при помощи нейтрального языка историографии. «Москва, 1937» у Руге — это место, где время, кажется, остановилось. Гостиницу, куда попадают опальные сотрудники Коминтерна, так и подмывает назвать чистилищем, где те, кто уже мертв (последняя часть книги называется «Танец мертвецов»), ожидают своей участи. Главный вопрос «Метрополя» — арестуют или нет Шарлотту и Вильгельма — в основной части книги так и остается открытым. Уже в эпилоге Руге рассказывает, что по необъяснимой причине его бабушка и дедушка избежали репрессий, хотя большинство их знакомых получили сроки или были расстреляны. Правда снова одержала верх над вероятностью, но это в «реальном» мире. В «Москве» Руге Шарлотта и Вильгельм так и остались в старомодной гостинице, украшенной панно Врубеля: «1937 теперь навсегда».
Руге выбирает намеренно отстраненный тон, и сначала даже не верится, что он рассказывает историю своих бабушки и дедушки, ради которых писатель несколько раз ездил в Россию и провел ночь в том самом номере «Метрополя», где они жили.
Здесь нет ни «невинных жертв», ни «жестоких палачей». Дело не только в том, что вопрос об оценке Большого террора для Руге уже давно решен, а насчет моральных качеств своих родных он, кажется, не питал иллюзий с самого начала. Руге использует проверенный прием, помещая трагедии в обыденный контекст, чтобы подчеркнуть весь ужас происходящего. Так он, например, преподносит сообщение о масштабе репрессий: «Конечно, „тройки”, которые Ежов с недавних пор внедряет по всей стране, подписывают больше. Соревнуются между собой, стахановцы. Говорят, есть и такие, кто приговаривает четыреста человек за один день. Но, во-первых, их трое, а если четыреста разделить на три, то и получишь сто тридцать три, он подсчитал. На пять меньше, чем его рекорд».
Впрочем, для российского читателя «Метрополь» вряд ли станет откровением. Руге, кажется, прошелся по всем основным топосам разговора о сталинских репрессиях. Здесь и размышления о банальности зла (Василий Васильевич подписывает смертный приговор Хильде, сокрушаясь, что его не позвали на обед к Ворошилову), и персонажи, отказывающиеся замечать очевидное (Хильде долго верит то, что массовые расстрелы санкционировал не Сталин), и, конечно, коммуналки, из которых один за другим по ночам исчезают жильцы. Простую истину книги, объясняющую, почему все всё видят, но ничего не замечают, выражает Василий Васильевич: «Люди верят в то, во что они хотят поверить».
Но чего у «Метрополя» точно не отнять, так это специфической позиции автора, одновременно инсайдера и аутсайдера. Советские 1930-е стали для Руге частью семейной истории, долгое время окруженной молчанием, но он избавлен от необходимости выслушивать аргументы соотечественников, доказывающих, что «по-другому нами управлять нельзя». Возможно, именно это позволило Руге написать книгу, где в центре внимания оказывается террор как повседневный опыт и где при этом на читателя не давит полемическая позиция автора, — хотя выводы, к котором он подводит, довольно прозрачны. Чем не причина скоротать несколько часов за чтением «Метрополя» этим летом?