«Потому что у нас все равно война»
Лев Оборин — о 6 поэтических новинках
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Юрий Смирнов. Астра. М.: ИД Городец, 2021
 «Астра» — вторая книга украинского поэта Юрия Смирнова, выпущенная импринтом «Вездец»: первой была вышедшая в 2020-м «Вселенная неформат» — ее проиллюстрировал Олег Пащенко, новую — Мария Кустовская aka Дана Сидерос. «Астра», в которую вошли стихи 2019—2020 годов, логически продолжает предыдущую книгу: Смирнов — мастер балладного монолога и нарратива, и здесь мы снова сталкиваемся в первую очередь с историями — рассказанными умело и захватывающе, так, что захватывает и самого говорящего. Точная рифма будто бы приходится к слову, разбиение строк соответствует членению фраз, современность накрепко монтируется с древностью, реальность — с «Игрой престолов». Рифмы выстраивают ассоциативный ряд, напоминающий о рэпе:
«Астра» — вторая книга украинского поэта Юрия Смирнова, выпущенная импринтом «Вездец»: первой была вышедшая в 2020-м «Вселенная неформат» — ее проиллюстрировал Олег Пащенко, новую — Мария Кустовская aka Дана Сидерос. «Астра», в которую вошли стихи 2019—2020 годов, логически продолжает предыдущую книгу: Смирнов — мастер балладного монолога и нарратива, и здесь мы снова сталкиваемся в первую очередь с историями — рассказанными умело и захватывающе, так, что захватывает и самого говорящего. Точная рифма будто бы приходится к слову, разбиение строк соответствует членению фраз, современность накрепко монтируется с древностью, реальность — с «Игрой престолов». Рифмы выстраивают ассоциативный ряд, напоминающий о рэпе:
Я с детства знаю этот широкий жгут
Для перетягивания артерий.
Какой-то псих сеет страх,
И вот уже в кровь поступает дейтерий,
И ты водородная бомба,
Ты один из драконов Дейнерис,
Ты трусливая шавка,
Ты мертвый мрак,
И анамнезис твой шепчет —
Заткнись и беги,
Дуррак.
На четвертом месяце с начала боевых действий в Украине многие стихи поневоле воспринимаешь как пророчества — тем более что здесь есть тексты о будущем (например, о научном эксперименте по воскрешению, поставленном в 2024 году). Читая: «Дом обвалился в двенадцать сорок», «За вагонным кладбищем пострелять пленных», «Я захожу в навсегда пустой ресторан / И растворяюсь в гибели» или «Так из прошлого смерть скалится / В наше будущее бессмертие», моментально возвращаешься из стихов в ту реальность, которая наступила 24 февраля — хотя, разумеется, после этой страшной даты появилось множество украинских стихотворений, которые прямо говорят о происходящем. Стихи Смирнова — часто о столкновении с жестокостью, но и о готовности что-то ей противопоставить, хотя бы и спокойствие («Это был лучший день. / День, / Когда наш район / Посрамил чертов ад»). Но еще чаще, на уровне константы, здесь происходит столкновение с чудесным или, точнее, с мистическим. Достоверности этим историям придает, например, обращение к собственному детскому опыту («Пещера Лейхтвейса», «Подземный флот», «Сказка травы») — и не только детскому:
Как закончился этот облом,
Всемирный локдаун,
Мы с котом моим,
Нежнейшим котом моим,
Покинули даунтаун
И махнули в байдарочный тур
По Ахерону и Лете.
И это было лучшее
«Как я провел лето»
На этом свете.
Краткость строк (будто бы уравнивающая у Смирнова рифмованный стих и белый) противопоставлена инклюзивности образного ряда: «Черепаха София все стерпит, / И любовь, и надежду, и веру. / Плоский шар опоясал герпес, / И не спится последнему кхмеру, / Красному, / Как новогодний шарик» — мотив болезни благоволит таким завихрениям, любовное приключение — тоже. «А как же секс — вы спросите / И будете в своем праве»: секс здесь есть, и он подчиняется все той же щедрой поэтике перечисления.
Инклюзивность эта вполне программная, захватывающая в первую очередь прошедшее — потому что у всякой истории есть конец, в том числе у истории, как говорит Алексиевич, «красного человека»:
А потом будет тише.
Будут лыжи зимой и арест летом.
Будет радость и слезы на смерть тирана.
Будет космос и акваланги на дне океана,
Мандарины на Новый год,
Телевизор,
В нем сельский час и приморский юмор.
И кровоток почти мертвый.
Грустный.
Из-под единственного
На десять лет костюма
Снова полезет еврей, украинец, русский.
Этот текст сентиментален, но далек от ресентиментной ностальгии по советскому прошлому — потому что осознает его финальность. «А за рекою умирает крик / Радости / Заброшенного гола»: советская зацикленность на смерти, воспринимаемая в детстве особым образом — страх и анестезия в одном ощущении, — всегда оттеняет «Но и хорошее было». Этому хорошему — «мороженое, газировка с сиропом» — в стихотворении «Набат» посвящено гораздо меньше строк, чем песне «Бухенвальдский набат». «Черт, мы все время пели песни о смерти. / О насильственной смерти. / О расстрелах, / О крематориях, / И даже невинное / „Пеплом несмелым подернулись угли костра…“ / Заставляло наши детские души страдать». О концлагерях тут много; «Знаю, я задолбал текстами про концлагерь», — шутит Смирнов в начале одного из стихотворений — но концлагерь оказывается локусом снятия всякой сентиментальности, поверяет эффектность как принцип. У истории может не быть хорошего конца, как показывает центральный, наверное, текст книги, «Гамлет» — о том, как в немецком концлагере ставят Шекспира силами заключенных.
После их уводила на берег зондеркоманда.
Мы обязаны были смотреть
На то, как они мимо нас проплывают.
Вода в ручье, прежде холодная и питьевая,
Навсегда стала горячей и красной.
Впрочем, это я сгущаю для ясности.
Уже вечером мы набирали ее для чая.
<…>
Хотел бы я написать,
Что тут Фортинбрас подоспел,
Что мы повели на расстрел
Наших тюремщиков-театралов,
Что «Гамлет» наш завершился правильно,
Что мы увидели завтрашний
Утренний свет.
Но — нет.
А может и быть — книга заканчивается совсем в другой тональности: «И зима навсегда. / И весна неизбежна. / И лето, как скорая, скоро».
Виктор Кривулин. Ангел войны. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022
 Это тематическое избранное: такие книги выходят нечасто, и в нынешних условиях этот небольшой сборник — важный и смелый жест. Один из важнейших авторов ленинградской «второй культуры», неподцензурной поэзии второй половины прошлого века, Виктор Кривулин (1944—2001) писал о войне много; о чувстве войны в его поэзии ясно говорится в послесловии вдовы поэта Ольги Кушлиной: «Виктор не с молоком матери даже, а с кровью, через пуповину, впитал знание о войне. Война была не за спиной и даже не рядом, каждая клетка хранила генетическую память». В еще одном послесловии Михаил Шейнкер пишет: «Эта книга и стихи, в нее включенные, не предотвратят и не остановят войну, но позволят заглянуть ей в лицо, разоблачить ее и ей противостоять»; хочется надеяться. В книгу вошли стихи, написанные с 1967 по 2000 год; как раз в 1999-м и 2000-м Кривулин пишет «Стихи юбилейного года», самые жесткие свои тексты. Вполне пророческое, например, — о военном опыте как якобы необходимой вещи для писателя:
Это тематическое избранное: такие книги выходят нечасто, и в нынешних условиях этот небольшой сборник — важный и смелый жест. Один из важнейших авторов ленинградской «второй культуры», неподцензурной поэзии второй половины прошлого века, Виктор Кривулин (1944—2001) писал о войне много; о чувстве войны в его поэзии ясно говорится в послесловии вдовы поэта Ольги Кушлиной: «Виктор не с молоком матери даже, а с кровью, через пуповину, впитал знание о войне. Война была не за спиной и даже не рядом, каждая клетка хранила генетическую память». В еще одном послесловии Михаил Шейнкер пишет: «Эта книга и стихи, в нее включенные, не предотвратят и не остановят войну, но позволят заглянуть ей в лицо, разоблачить ее и ей противостоять»; хочется надеяться. В книгу вошли стихи, написанные с 1967 по 2000 год; как раз в 1999-м и 2000-м Кривулин пишет «Стихи юбилейного года», самые жесткие свои тексты. Вполне пророческое, например, — о военном опыте как якобы необходимой вещи для писателя:
или вижу в страшном сне —
старший лейтенант спецназа
потрудившийся в чечне
мучится: Не строит фраза
Мысль не ходит по струне
Тема войны меняет наполнение: в 1967-м это память о блокаде, но уже в 1968-м — стыд после вторжения в Чехословакию, а в 1980-е и 1990-е — мучительное знание об Афганистане и Чечне (стоит упомянуть здесь два сборника другого поэта, близкого для Кривулина, — «Рядом с Чечней» и «Нестройное многоголосие» Сергея Стратановского — в последней книге многие стихи посвящены войне с Украиной, начавшейся в 2014 году). Упомянуты здесь и Югославия, и Украина, и «какой-то путин». Но еще один мотив, может быть, основной, — война будущая, неизбежная, с общими для всех войн страданием, растерянностью, эвакуацией, разрушениями, смертью: «мы — свидетели бегства, / и смертные наши тела / меньше наших расширенных глаз». Постоянство этого мотива заставляет читать стихи 1990-х как сверхактуальные — даже если война в них прямо не упомянута:
и стали русские слова
как тополя зимой
черней земли в отвалах рва
во рту у тьмы самой
меж ними слякотно гулять
их зябко повторять
дорогой от метро домой
сквозь синтаксис хромой
Так получается, что по этой книге можно проследить поэтическую эволюцию Кривулина. Книга открывается стихотворением 1971 года — с характерными для этого периода сложными синтаксическими конструкциями, торжественными инверсиями:
Выживет слабый. И ангел Златые Власы
в бомбоубежище спустится, сладостный свет источая,
в час, когда челюсти дней на запястье смыкая,
остановились часы.
Выживет спящий под лампочкой желтой едва,
забранной проволкой — черным намордником страха.
Явится ангел ему, и от крыльев прозрачного взмаха
он задрожит, как трава.
Выживет смертный, ознобом души пробужден.
Голым увидит себя, на бетонных распластанным плитах.
Ангел склонится над ним, и восходят в орбитах
две одиноких планеты, слезами налитых;
в каждой — воскресший, в их темной воде отражен.
Несомненна гуманистическая программа этого стихотворения, в претексте которого — Алик Ривин («Вот придет война большая, / Заберемся мы в подвал»); но апология слабого и смертного в соседних стихотворениях идет еще дальше: «Мне камня жальче в случае войны. / <…> Застыть от ужаса — вот назначенье вещи, / Окаменеть навеки — мертвый чист». Люди в войне «виновны сами» — и уже в 1970-е в стихах Кривулина можно расслышать ноты того убийственного, гневного сарказма, что заполнит стихи последних лет: «Бункер, метро или щель — / прекрасен, прекрасен уготованный дом!» (1972). Ну а перелом поэтики — выраженный на уровне графики в отказе от прописных букв и конвенциональной пунктуации — происходит в начале 1980-х. Это время войны в Афганистане, время, в котором уже чувствуется потенция будущей «тоски по имперскому раю» и нового культа смерти — процитируем стихотворение, в котором пунктуация обычная, а вот прописные собрались в макабрический лозунг:
сотрясается душа. излучина, изгиб
жизни — вот за поворотом
надпись по небу над замершим народом:
«ТЫ НЕ ОЖИЛ, ВОИН, ЕСЛИ НЕ ПОГИБ»
Арсений Ровинский. 27 вымышленных поэтов в переводах автора. Екб.; М.: Кабинетный ученый, 2021
Арсений Ровинский. Сева не зомби. М.: Poetica, 2022
 Новые книги основателей «нового эпоса» — два сборника Ровинского и недавно вышедший в тель-авивском «Бабеле» сборник Федора Сваровского — хороший повод поговорить о том, к чему «новый эпос» пришел, и напомнить, чем он был изначально. Этот термин, появившийся в 2008 году вместе с тройным сборником Сваровского/Ровинского/Шваба «Все сразу», заполнил очевидную лакуну — и показался критикам универсальным ключом ко множеству явлений: действительно, в то время появлялось множество текстов нарративных, рассказывающих истории (от Андрея Родионова и Марии Степановой до Линор Горалик*Признан властями РФ иноагентом. и Веры Полозковой), и общим местом была фраза «поэзия берет на себя функции прозы» (а проза, подразумевалось, пребывает в постыдном запустении). И часто за рамками дискуссии оставалась принципиальная установка «нового эпоса» на фрагментарность: этот эпос складывался из кусочков, его образовывали моменты, выхваченные из жизни героев — с именами-отчествами, которые ничего нам не говорят, со своими воспоминаниями, которые позволяют, дав волю фантазии, достраивать картину. Как Игорь Равилевич Сайфутдинов, герой стихотворения Сваровского, попал на Луну? Каких страшных дел в состоянии аффекта наворотил Алеша из стихотворения Ровинского?
Новые книги основателей «нового эпоса» — два сборника Ровинского и недавно вышедший в тель-авивском «Бабеле» сборник Федора Сваровского — хороший повод поговорить о том, к чему «новый эпос» пришел, и напомнить, чем он был изначально. Этот термин, появившийся в 2008 году вместе с тройным сборником Сваровского/Ровинского/Шваба «Все сразу», заполнил очевидную лакуну — и показался критикам универсальным ключом ко множеству явлений: действительно, в то время появлялось множество текстов нарративных, рассказывающих истории (от Андрея Родионова и Марии Степановой до Линор Горалик*Признан властями РФ иноагентом. и Веры Полозковой), и общим местом была фраза «поэзия берет на себя функции прозы» (а проза, подразумевалось, пребывает в постыдном запустении). И часто за рамками дискуссии оставалась принципиальная установка «нового эпоса» на фрагментарность: этот эпос складывался из кусочков, его образовывали моменты, выхваченные из жизни героев — с именами-отчествами, которые ничего нам не говорят, со своими воспоминаниями, которые позволяют, дав волю фантазии, достраивать картину. Как Игорь Равилевич Сайфутдинов, герой стихотворения Сваровского, попал на Луну? Каких страшных дел в состоянии аффекта наворотил Алеша из стихотворения Ровинского?
Ровинский обнаруживает, что эта неполнота отлично увязывается не с героикой, а с частной жизнью — и этот интерес к частной жизни роднит его с тихими европейскими поэтами, наследующими модернизму. В книге «27 вымышленных поэтов» это родство осознано как проблема: перед нами вроде бы попытка создать 27 индивидуальных поэтик, но разница между Мачеком Резницким и Хансом Дигельместером, Дариной Хорошкевич и Катинкой Гуннарсдоттир не так уж велика. Эти стихи всякий раз создают миниатюрный сюжет-зацепку, работают с бытовым — и с помощью недомолвок поднимают его до чего-то таинственного.
Улицы
и пыль на улицах нежны
сегодня к Ингеборге.
В золотой квадриге
прилетит возлюбленный,
исполненный душевных разговоров
наивозвышенных.
Возможно, что сегодня
(Катинка Гуннарсдоттир)
Милый друг Рамирес,
сколько сейфов ты открыл —
рука не дрогнула ни разу.
А я всегда стоял и сторожил
лошадок наших
и ни разу не подвел.
Скажи, теперь, когда все кончено, —
о чем ты вспоминаешь? 350
зеленых новых песо стоила гитара,
и я увидел в первый раз,
как твои руки дрогнули.
(Карлос Максимилиан Ладо)
Природа книги «27 вымышленных поэтов» глубоко пародийная. Перед нами слепок с той поэзии, которой эта книга хочет притворяться, и слепок довольно безжалостный. Будучи антологизированными, такие стихи составляют гомогенную массу, географические различия, культурные особенности стираются, оставляя после себя рудименты деталей вроде географических названий.
И здесь мы видим, насколько контекст влияет на наше восприятие текстов. Если отрешиться от игры в 27 поэтов, то мы вновь получаем нечто индивидуальное и узнаваемое: «Эта книга — конечно, классический Ровинский: мастер чужой и другой речи, здесь возведенной в квадрат; автор построенного на умолчаниях, паузах и пропусках сюжета; поэт, который по-настоящему любит своих почти всегда нелепых, несильных, нецельных героев и транслирует читателю эту безоговорочную любовь», — пишет в послесловии к книге Василий Чепелев. Разделившись на 27 поэтов, Ровинский подчеркнул единство и в то же время уязвимость своего метода, а это требует серьезной смелости.
 В таком случае книга «Сева не зомби», открывающая новую серию журнала Poetica, — это возвращение в цельное авторское тело. Упоминание зомби/незомби — повод сопоставить поэтику Ровинского с новыми литературными тенденциями: в предисловии Максим Дремов указывает на схожесть этих стихов с weird fiction, «странной литературой», темы которой причудливы и порой кажутся «взятыми с потолка» — как и имена персонажей. Несмотря на это, книга открывается разбитым на «главы», но совершенно связным лирическим текстом «Девяносто девятый год». «Расскажи что-то личное. / То есть не обязательно очень личное, / может быть, просто новости из / Америки, или чужое / стихотворение, прочитанное / перед сном». «Чужое стихотворение» может стать своим, личным: это вопрос не апроприации, а о переживании/проживании, тонкая грань между удивлением перед чужим и возведением его в типичное. Чтение книги «самого Ровинского» (а не вымышленных поэтов) заставляет искать авторскую позицию — и она обнаруживается в политизации фирменного фрагмента. «Зазвучала такая музыка, от которой / хотелось бежать» — это очень точное выражение современного момента, момента, наступившего 24 февраля 2022 года, и соседнее стихотворение только подчеркивает силу предчувствия:
В таком случае книга «Сева не зомби», открывающая новую серию журнала Poetica, — это возвращение в цельное авторское тело. Упоминание зомби/незомби — повод сопоставить поэтику Ровинского с новыми литературными тенденциями: в предисловии Максим Дремов указывает на схожесть этих стихов с weird fiction, «странной литературой», темы которой причудливы и порой кажутся «взятыми с потолка» — как и имена персонажей. Несмотря на это, книга открывается разбитым на «главы», но совершенно связным лирическим текстом «Девяносто девятый год». «Расскажи что-то личное. / То есть не обязательно очень личное, / может быть, просто новости из / Америки, или чужое / стихотворение, прочитанное / перед сном». «Чужое стихотворение» может стать своим, личным: это вопрос не апроприации, а о переживании/проживании, тонкая грань между удивлением перед чужим и возведением его в типичное. Чтение книги «самого Ровинского» (а не вымышленных поэтов) заставляет искать авторскую позицию — и она обнаруживается в политизации фирменного фрагмента. «Зазвучала такая музыка, от которой / хотелось бежать» — это очень точное выражение современного момента, момента, наступившего 24 февраля 2022 года, и соседнее стихотворение только подчеркивает силу предчувствия:
жить будем все у тебя
потому что у нас все равно война
зи́рочки
зи́рочки в небе они теперь каждая для себя
также как весь наш вагон когда пассажиры
неожиданно начинают двигаться
как только до Мюнхена остается меньше
чем полчаса
Евгений Арабкин. Участие в темноте. М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2021
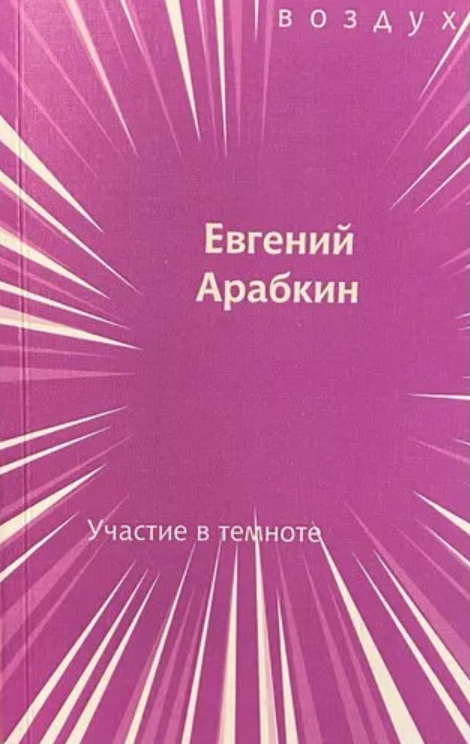 Бывают книги, в которых с первого стихотворения чувствуешь что-то родственное, — и здесь приходится держать себя в руках, чтобы не увлечься аберрациями. Книга Евгения Арабкина как раз из таких. В ней есть катастрофизм, поначалу неявный, отложенный, угрожающий, равно утопичный и дистопичный («Сгустимся братья / На солидарной равнине / Во вращающуюся каплю / Горячего вещества // Нас не потеряет / Никакая чья-то память / Никакой анализ / Нас не сможет разъять»); ближе к концу книги — планетарный:
Бывают книги, в которых с первого стихотворения чувствуешь что-то родственное, — и здесь приходится держать себя в руках, чтобы не увлечься аберрациями. Книга Евгения Арабкина как раз из таких. В ней есть катастрофизм, поначалу неявный, отложенный, угрожающий, равно утопичный и дистопичный («Сгустимся братья / На солидарной равнине / Во вращающуюся каплю / Горячего вещества // Нас не потеряет / Никакая чья-то память / Никакой анализ / Нас не сможет разъять»); ближе к концу книги — планетарный:
В ночь когда обезлюдело солнце
Во фляге дырявой еще оставалась лужица земли
Высоко заплыли корабли в этот раз
Сухие голоса колоколов по чашам разлитые
Испаряются им навстречу
В самой по себе поэтической эсхатологии нет особого фокуса; важно, какими средствами она подается. Тут опять нужно вспомнить новый эпос: поэзия Арабкина тяготеет к фрагменту, собрание этих фрагментов производит гул, который постоянно обнаруживает легкую, тревожную несогласованность — при том что в книге можно обнаружить единство метода. Примета этого метода — перекличка разделенных и стремящихся вновь «сгуститься» вещей, звучащая иногда на уровне тонкой игры слов: здесь Арабкин работает на одной волне с поэтами чуть младше — Денисом Ларионовым, Ниной Ставрогиной, Андреем Черкасовым. Еще одна примета — изящные отсылки к геологии и астрономии («Давай видеться говорит Антарес астроному»), к поэтической и прозаической классике: «Никогда ничей а все же современник», «Выталкивает пар / Голоса извоз / На холоде подобрался / И высказал / Не услышал / А прочел по запаху / Леденцы слов / И карамель». Последняя аллюзия на знаменитый эпизод с оттаявшими словами из «Гаргантюа и Пантагрюэля», кроме прочего, — признание фрагментарности как метода. В одном из текстов Арабкин явно переписывает «Утро» Леонида Аронзона, показывая (воспользуемся названием книги Стефана Красовицкого) катастрофу в раю:
Скомканных лиц красочная перестрелка
Священной весны продразверстка
Царя штурм горы
Мальва и мак с остальными
В цене отступают как падают
Но, несмотря на все достоинства, эти «фрагментарные» стихи кажутся фоном для вещей более когерентных — и самых удачных в сборнике, ясно развивающих некую единую мысль или моделирующих диалог. Примечательно, что два таких стихотворения — о биологии и ее взаимосвязи с текстом. Вот одно из них:
В свернутом виде ствола
В лесу одиночество
На каждый лист претендуют хотя бы двое
Не тропинка — походка ведет
В душном мареве
Уплотнения гнезд корневых
Тесная летная школа
В листах одиночество
А еще одно открывает этот сборник:
Он ему говорит
Из книг будут делать деревья
Попомни
А он ему отвечает
Каждой книги беру по два экземпляра
Потому что
С первого раза
Понять ничего невозможно
Он ему говорит
Все ветви заселят живыми
Так дальше от мертвых
А он ему отвечает
Каждую смерть про себя повторяю иначе
Потому что
Очень боюсь совпадений
И деревенею всегда
На последней странице
А на последней странице мы как раз встречаем завершение той локальной (в пределах Солнечной системы) космографии, которая прощалась с нами на протяжении всей книги: здесь-то и описано «участие в темноте». Книга, таким образом, закольцовывается — и мы смотрим на нее как на концептуальное высказывание с несколькими лейтмотивами. Эти лейтмотивы — смерть, разлучение, одиночество, но разговор продолжается вопреки им, в том числе самой идеей участия: от эротической вовлеченности до физической неизбежности наблюдателя.
Александр Анашевич. Неприметный боох. М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2021
 Среди сабреддитов, на которые я подписан, есть r/Miniworlds и r/AccidentalGreenhouses: здесь можно увидеть рукотворные и сотворенные природой микромиры — крошечные экосистемы в брошенных банках или расщепленных пнях, елочных шарах или закоулках детских конструкторов. Новая книга Александра Анашевича напоминает такой мир — сложный, но принципиально замкнутый и обозримый. У этого мира есть свой «неприметный боох», который не управляет им, а прячется — видимо, на правах наблюдателя, верифицирующего все, что происходит.
Среди сабреддитов, на которые я подписан, есть r/Miniworlds и r/AccidentalGreenhouses: здесь можно увидеть рукотворные и сотворенные природой микромиры — крошечные экосистемы в брошенных банках или расщепленных пнях, елочных шарах или закоулках детских конструкторов. Новая книга Александра Анашевича напоминает такой мир — сложный, но принципиально замкнутый и обозримый. У этого мира есть свой «неприметный боох», который не управляет им, а прячется — видимо, на правах наблюдателя, верифицирующего все, что происходит.
вот дикие загорелые мальчики идут через брод ныряют
в водовороте пантелей раздевается при всём народе
чёрные блохи живут на пьянице и уроде и всё движется в солнечном хороводе
пантелей старики мотоциклы мальчики и стаи блох
а за деревьями над холмом с радугой над головой стоит неприметный боох
Для обитателей — или, вернее, обитательниц, потому что большая часть книги Анашевича написана «от женского лица», — этого мира встреча с неприметным боохом может быть откровением, объясняющим течение жизни в замкнутом мире:
раньше читала только по-русски рисовала окружности плоскости
теперь увидела бооха слишком близко
много цветов увидела
будто у памятника стою у подножия обелиска
оказывается чтобы быть счастливой никуда ходить не надо
всё рядом всё под рукой и любовь и золото и наряды
Это синкретический мир, в котором действуют «церковные и цирковые»: такое сочетание наводит на мысль о юродстве — и среди многочисленных женских персонажей книги есть Марина и Анна, немного напоминающие сорокинскую кликушу ААА: «марине до прогулки была валерьянка / марине был пустырник / марине была холодная белая мокрая тряпка / марине была анна в тоске самоубийства / воображаемый друг андрогин и тиранка», — пишет Анашевич и дальше цитирует почти дословно знаменитое ахматовское стихотворение. Такой прием искаженной/дополненной цитации у Анашевича называется «курсив немой» — вкраплениями в книгу становятся обширные цитаты из Слуцкого, Вознесенского («плачет девушка у банкоматов»), а то и певицы Глюкозы. В результате экосистема становится похожей на сорочье гнездо, куда приносят все новые находки «старикистарухи», причем старух гораздо больше, чем стариков — это могут быть отставные порноактрисы или насельницы русских коммунальных трущоб, уверяющие, что за ними следит «живой еще избранник». Близкий к рэпу стих Анашевича оказывается удивительно подходящим для разговора о старости — с ее тоской по прошлому, табуированными эротическими желаниями, вниманием к смерти:
потрёпанные пенсионерки сегодня зажигали как умели
бес времени бес фальши бес мужчин
кричали плакали звенели слоями
словно торт наполеон
седые волосы морщины такой смешной аттракцион
глумилась над богами над друзьями
артрит ишемическая болезнь варикозное расширение вен
кагор домашняя выпечка силиконовый член
старухи шли по району топлесс неглиже высохшие груди
предсмертный драйв хлебали горькую
на помойке и в чьём-то гараже
семь
бывших прекрасных
бывших страстных
бывших стройных нежных работоспособных
блёстки радости блёстки смерти game over
Каждый раздел книги завершается многочастной и многоперсонажной поэмой: герои и героини этих поэм куда-то движутся, но далеко не уходят; они ищут себя и умирают — их существование само по себе добавляет подробностей густонаселенному пространству книги. Словом, это восхитительная книга с редкой для русской поэзии интонацией — что-то отдаленно похожее можно найти разве что у Линор Горалик (к ее известному стихотворению «Вся столица сияла, сияла да толковала…» Анашевич отсылает в одном из текстов книги) и Сергея Уханова, а в качестве зарубежной параллели можно назвать клаустрофобический, невротический мир Эугениуша Ткачишина-Дыцкого.