Посторонний В.
Рецензия на первую биографию Венедикта Ерофеева
Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. Венедикт Ерофеев: посторонний. Москва: АСТ, 2018
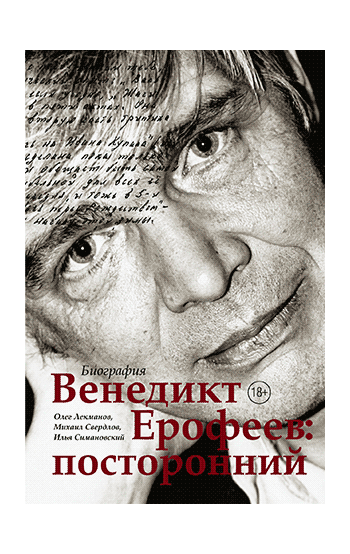 В прошедшем октябре исполнилось восемьдесят лет со дня рождения Венедикта Ерофеева (1938–1990). К юбилею писателя вышла его первая биография, написанная в соавторстве двумя профессиональными литературоведами (Лекманов и Свердлов) и знатоком ерофеевской биографии из непрофессиональных поклонников его творчества (Симановский). Исследование, которое лежит в основе публикации, делает книгу событием. Но не менее важным представляются вопросы, которые вырастают из повествования о советском человеке, который поверил в собственную исключительность и сумел внушить эту веру другим.
В прошедшем октябре исполнилось восемьдесят лет со дня рождения Венедикта Ерофеева (1938–1990). К юбилею писателя вышла его первая биография, написанная в соавторстве двумя профессиональными литературоведами (Лекманов и Свердлов) и знатоком ерофеевской биографии из непрофессиональных поклонников его творчества (Симановский). Исследование, которое лежит в основе публикации, делает книгу событием. Но не менее важным представляются вопросы, которые вырастают из повествования о советском человеке, который поверил в собственную исключительность и сумел внушить эту веру другим.
«Венедикт Васильевич Ерофеев очень рано, в восемнадцатилетнем возрасте, раз и навсегда сошел с пути, обязательного для почти любого заботящегося о собственным благополучии интеллигента», — так, с ожидаемого тезиса об исключительности, открывается предисловие к жизнеописанию. По похожим причинам Ерофеева сложно назвать писателем без кавычек — в силу и объективных свойств литературного поля этих десятилетий, и сложности профессиональной траектории самого Ерофеева. Его opus magnum, «Москва — Петушки», был закончен в 1970 году, когда автор подвизался на кабельных работах в Подмосковье. И это не самое неожиданное трудоустройство автора-кочевника с опасным обыкновением терять паспорт. Рукопись «Москва — Петушки» уже ходила в самиздате, а ее автор продолжал осваивать новые профессии. Особенно Ерофееву пришлась по сердцу работа лаборантом в составе «паразитологической экспедиции» в Узбекистан, организованной Всесоюзным НИИ дезинфекции и стерилизации в 1974 году.
До того, как сокращенная редакция «поэмы» появилась в перестроечном журнале «Трезвость и культура» в 1988 году, книга была переведена на десяток языков. Слава «Москвы — Петушков» и ее создателя была сначала подсоветской и внесоветской: текст имел хождение в самиздате, а в 1973 году был опубликован в израильском журнале. И внутри СССР, и за его пределами книга вызывала некоторую оторопь, часто вкупе с восторгом. В каталоге издательства «ИМКА-Пресс» сочинение Ерофеева сопровождалось следующей аннотацией: «Поэма-гротеск об одной из самых страшных язв современной России — о повальном, беспробудном пьянстве изверившихся, обманутых людей». В Советском Союзе ровный гул подпольной популярности «Москвы — Петушков» прорвался в конце 1980-х на событийную поверхность художественной и университетской жизни больших городов. Начало публичного бытования «Москвы — Петушков» в СССР почти совпало со смертью автора в 1990 году.
С тех пор о тексте и его авторе много писали. Однако наиболее интересные публикации о «Москве — Петушках» — статьи, главы книг или сборники; заметные исключения — тотальный комментарий к «Москве — Петушкам» Эдуарда Власова и «психоаналитическое исследование» поэмы Н. А. Благовещенского («Случай Вени Е.». М., 2016). В этом смысле неудивительно, что первая полновесная биография автора одного из наиболее узнаваемых текстов последних десятилетий прошлого века вышла только в 2018 году. При этом книга Лекманова-Свердлова-Симановского встраивается в поэтику фрагментарной литературы о «Москве — Петушках» и об авторе поэмы. Во-первых, у нее три автора — редкость для биографического жанра. Во-вторых, сама техника повествования, выбранная соавторами, строится на многоголосье. В биографиях Мандельштама и Есенина Лекманов и Свердлов уже опробовали роль «отборщиков, тематических классификаторов, а также проверщиков… на фактологическую точность» мемуарных высказываний, которые цитируются вперемежку с сочинениями их протагонистов. Монтаж, надо заметить, был излюбленным нарративным приемом Ерофеева, от его юношеских записных книжек до «Моей маленькой ленинианы». В «Постороннем» приводятся, с одной стороны, уже опубликованные в литературной и научной периодике воспоминания и интервью, а с другой — мемуары, написанные специально для юбилейного сочинения.
Последняя особенность делает книгу уникальным артефактом. В октябре исполнилось не только восемьдесят лет со дня рождения Ерофеева, но и почти тридцать лет со дня его смерти. А это значит, что его друзей и даже нерегулярных собеседников с каждым годом становится меньше — самым юным из них под шестьдесят. Поэтому сбор мемуарных свидетельств, их перепроверка и авторизация — важнейший компонент документального проекта: это, вероятно, первая и последняя биография от современников протагониста.
 Венедикт Ерофеев
Венедикт Ерофеев
Эта ценная особенность книги не могла не отразиться на модусе биографического повествования. А скупость авторского комментария сказывается на внятности высказывания. Основная аудитория книги, вероятно, также современники — подлинные или воображаемые — Ерофеева, которые многие реалии советской культуры могут восстановить по памяти. (Характерно, что презентация книги в Москве проходила в присутствии значительного числа ее фигурантов; см. видеозапись встречи). Тем же, кто не относит себя к этому воображаемому сообществу, наверное, будет сложно принять язык биографического повествования в целом (эффект монтажа почти нивелируется некоторой монотонностью материала) и пронизывающий повествование тезис об «абсолютной свободе Ерофеева от окружающего мира» в частности.
Биографии предпослан эпиграф из очерка Владислава Ходасевича «Андрей Белый», в котором биографическим «прикарсам» противопоставлены «возвыщающая правда» и полнота понимания. Как авторы стараются добиться полноты понимания? Для начала им требовалось найти решение базовой проблемы — источников для биографической реконструкции. Ерофеев не только был до поры кружковым, полуподпольным автором, но и старательно уклонялся от тех институтов советской реальности, которые питали бумагопроизводство, вроде армии или постоянной прописки. Последствия кочевой жизни протагониста для биографа очевидны: факты ерофеевской биографии выкристаллизовываются главным образом из пересказов в первом, втором или третьем лице. Роль бюрократии, которая иногда помогает сохранить следы жизни, для этой реконструкции третьестепенна. Свидетельства близких друзей и знакомцев Ерофеева, которые часто были его первыми читателями и почитателями, заполняют массу пробелов и, казалось бы, должны помочь нащупать «чувства и мечты» героя жизнеописания. Здесь, однако, логика биографического исследования наталкивается на активное писательское жизнетворчество.
 В эссе, предваряющем раннее, 1995 года, собрание сочинений писателя, Михаил Эпштейн обратил внимание на один из мотивов кружковой репутации Ерофеева — о недовыраженности его таланта, о том, что он был значительнее своих произведений. Ближайший его друг, филолог Владимир Муравьев, отзывался еще решительнее: «Самым главным в Ерофееве была свобода. Он достиг <…> Конечно, он сам себя разрушил. Ну, что ж — он так и считал, что жизнь — это саморазрушение, самосгорание. Это цена свободы». Галина Ерофеева, «вторая жена писателя» (как принято представлять фигурантов творческих жизней), обмолвилась: «Наверное, нельзя так говорить, но я думаю, что он подражал Христу». Священное Писание было, конечно, важнейшей, но, как кажется, все-таки одной из «моделирующих систем» жизнетворчества Ерофеева — наравне со всемирной литературой (по каталогу соответствующей серии-«библиотеки») в целом и русской поэзией в частности, но и с другими сферами упорядоченного опыта. Следуя за этими отражениями, книга о Ерофееве получилась книгой о персонаже Ерофеева в его разных ипостасях — кружкового гения; исполненного противоречий выпивохи; писателя в непрерывном и не бессбойном процессе становления; автора исключительного по своим качествам текста и Венички из этого самого текста.
В эссе, предваряющем раннее, 1995 года, собрание сочинений писателя, Михаил Эпштейн обратил внимание на один из мотивов кружковой репутации Ерофеева — о недовыраженности его таланта, о том, что он был значительнее своих произведений. Ближайший его друг, филолог Владимир Муравьев, отзывался еще решительнее: «Самым главным в Ерофееве была свобода. Он достиг <…> Конечно, он сам себя разрушил. Ну, что ж — он так и считал, что жизнь — это саморазрушение, самосгорание. Это цена свободы». Галина Ерофеева, «вторая жена писателя» (как принято представлять фигурантов творческих жизней), обмолвилась: «Наверное, нельзя так говорить, но я думаю, что он подражал Христу». Священное Писание было, конечно, важнейшей, но, как кажется, все-таки одной из «моделирующих систем» жизнетворчества Ерофеева — наравне со всемирной литературой (по каталогу соответствующей серии-«библиотеки») в целом и русской поэзией в частности, но и с другими сферами упорядоченного опыта. Следуя за этими отражениями, книга о Ерофееве получилась книгой о персонаже Ерофеева в его разных ипостасях — кружкового гения; исполненного противоречий выпивохи; писателя в непрерывном и не бессбойном процессе становления; автора исключительного по своим качествам текста и Венички из этого самого текста.
Биографический жанр опирается на представление о единстве автономного субъекта, unitary subject, которое, в свою очередь, закрепляется биографическими нарративами в культуре. В жизни Ерофеева, несмотря на ее социальную неукорененность, действительно, просматриваются некоторые константы — помимо увлечения алкоголем, литературой и музыкой. Например, он мастерски сдавал экзамены в вузы (и с куда меньшим увлечением участвовал в учебном процессе) и с наслаждением подвергал экзаменовке окружающих — например, на знание Евангелия или русской поэзии. «Он нам баллы ставил! Как в фигурном катании: 5,7 — 5, 4 — 5,9…», — вспоминает актер студенческого театра МГУ о появлении на спектакле автора «Вальпургиевой ночи, или Шагов командора». И так вплоть до «33 зондирующих вопросов абитуриентке Екатерине Герасимовой», найденных в архиве писателя.
И все же лучше всего единство личности конструируется в литературе, особенно в повествовании от первого лица. Проследив, как отдельное наблюдение из записной книжки перемещается на страницы «Москвы — Петушков» (а таких случаев довольно много), авторы заключили, что именно поэму можно считать наиболее полным и заслуживающим доверия источником для исследования внутреннего мира Ерофеева. Таким образом, жизнь (биос) оказывается замкнутой на литературу, письмо (графия): в семи из восьми глав книги рассказ о «Венедикте» сопровождается разбором поэтического путешествия «Венички». Такое переплетение жизнеописаний автора и героя — ход, безусловно, интересный, но и характерный в смысле сохранения нераздельности-неслиянности двух нарративов. Как если бы биография Венедикта Ерофеева опустела без его шедевра.
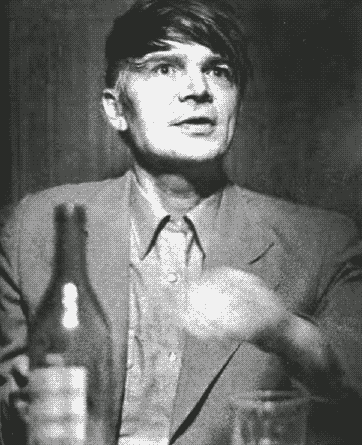 На мой взгляд — здесь разговор о «Постороннем» окончательно уступает место размышлениям о жанре, — освободившиеся таким образом страницы могли бы быть посвящены двум подходам к отношениям «протагонист (биографии) — современники — литературный текст — рецепция». В рамках первого подхода было бы любопытно, упразднив тезис о заведомой исключительности Ерофеева, подумать о феномене позднесоветских кружковых гениев, пьющих и не очень, но всегда мужчин — и их псевдорелигиозного, разной степени ироничности культа. «Москва — Петушки» может рассматриваться как факт этой кружковой культуры, но не совсем ясно тогда, как интерпретировать интерес к переводам поэмы на иностранные языки. Квалифицированные читатели — от Бродского до австрийского слависта — утверждают, что оценить текст по достоинству может только «русский», «соотечественник». Однако, порождая густые фантазмы «русскости», сочинение Ерофеева читается многими и по-разному, зачастую очень лично. Достаточно сравнить друг с другом три имеющихся английских перевода поэмы.
На мой взгляд — здесь разговор о «Постороннем» окончательно уступает место размышлениям о жанре, — освободившиеся таким образом страницы могли бы быть посвящены двум подходам к отношениям «протагонист (биографии) — современники — литературный текст — рецепция». В рамках первого подхода было бы любопытно, упразднив тезис о заведомой исключительности Ерофеева, подумать о феномене позднесоветских кружковых гениев, пьющих и не очень, но всегда мужчин — и их псевдорелигиозного, разной степени ироничности культа. «Москва — Петушки» может рассматриваться как факт этой кружковой культуры, но не совсем ясно тогда, как интерпретировать интерес к переводам поэмы на иностранные языки. Квалифицированные читатели — от Бродского до австрийского слависта — утверждают, что оценить текст по достоинству может только «русский», «соотечественник». Однако, порождая густые фантазмы «русскости», сочинение Ерофеева читается многими и по-разному, зачастую очень лично. Достаточно сравнить друг с другом три имеющихся английских перевода поэмы.
С другой стороны, было бы уместно исследование выхода текста из кружкового контекста в широкое бытование, который пришелся на 1990-е. Как кажется, именно книга «Москва — Петушки» стала местом одновременно массового и очень личного переживания самости постсоветского читателя. Почему? Почему именно текст Ерофеева стал основным претендентом на статус «Горя от ума» среди читающих и выпивающих городских сообществ? Обе перспективы подразумевают дистанцию, выход и из текста, и из воображаемого сообщества современников писателя. Первая биография Ерофеева блестяще демонстрирует, что «ситуация назрела».