Поп-верлибры, нобелевские стихи и любопытство гостя
Пять поэтических книг ноября
На «Горьком» премьера новой рубрики: раз в месяц наш постоянный автор Лев Оборин будет выбирать и рецензировать главные поэтические новинки. В первом выпуске рубрики речь пойдет о книгах Герты Мюллер, Анастасии Векшиной, Полины Барсковой, Олега Юрьева и Рупи Каур.
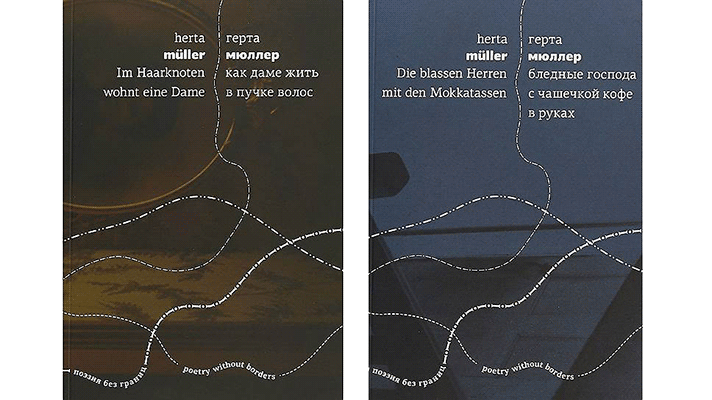 Герта Мюллер. Бледные господа с чашечкой кофе в руках / пер. с нем. Б. Шапиро. Ozolnieki: Literature Without Borders, 2018
Герта Мюллер. Бледные господа с чашечкой кофе в руках / пер. с нем. Б. Шапиро. Ozolnieki: Literature Without Borders, 2018
Герта Мюллер. Как даме жить в пучке волос / пер. с нем. А. Прокопьева. Ozolnieki: Literature Without Borders, 2018
Два сборника немецкой поэтессы, лауреата Нобелевской премии, вышли одновременно в латвийском издательстве Дмитрия Кузьмина. Премию Мюллер получила за прозу, и стихи обычно рассматриваются как ее побочная деятельность, но они — самый короткий способ понять фирменный мюллеровский абсурдизм.
Социалистическая Румыния, где выросла Мюллер, была местом, где зло вроде бы было необязательно (скажем так, обязательно не в такой мере, как в гитлеровской Германии или сталинском СССР) — но, тем не менее, постоянно присутствовало, ставило подножки, устраивало подлянки; залезало в семью. Стихотворение, в котором девочка без двух пальцев на ногах залезает под стол и обнаруживает, что у ее матери пальцев на ногах двенадцать; или вот стихотворение, где папа меняет шубу умершей матери на радио, радио на флейты, флейты на фаянс и так далее (макабрическая иллюстрация к дефициту) — все это хорошие примеры той атмосферы, которую Мюллер воссоздает.
Когда я туда прибыла все разбежались кто куда кто
потолще с терпением занялись хоровым пением а кто
тонкий мог чреслами двигать тот пошёл чрез верёвочку
прыгать а кто длиннее метра семидесяти двух тот
залез на красный прицеп настраивать слух тут все весело
живут всё время пляшут и поют и внутренний двор
опустел тогда пришёл равнодушный чиновник в модном
бархатном кителе от униформы с узором в косую
шашечку сел напротив а китель прижал к коленям
вот уж солнце тебе напечёт макушку когда тебя обреют в
кутузке сказал он я инженер примирения с данностью
если ты от голода начнёшь загибаться то посадим тебя на
больничный по статье 07 распорядка.
(пер. Б. Шапиро)
Это может показаться «мнимой прозой», то есть стихотворением, записанным «в строчку», но разбивка на строки здесь принудительная — и напрямую связана с главной визуальной особенностью стихов Мюллер. Первое, на что обращаешь внимание, сталкиваясь с ее поэзией, — то, как она выглядит. Мюллер вырезает слова из газет и журналов, иногда видоизменяя их; наклеивает их в нужном порядке, присоединяет журнальные же картинки; получаются коллажи — не то «держитесь подальше от торфяных болот», не то возвращение к опытам дадаизма, только на этот раз без тени зауми. Разумеется, в русском издании переводы даны обычным набором — с сохранением только примерной конфигурации расположения слов на странице. Очень опытные переводчики постарались сохранить большинство особенностей оригинального текста: «прячущиеся» в середине строки рифмы, неологизмы, но главное — хитро устроенный синтаксис, благодаря которому фразы Мюллер приобретают несколько смыслов («один для другого ноль без палочки / бросают в воду вечером растерзанных девочек»).
Барбара в летний зной
карман носила накладной
на платье в серенький цветочек
как пепел с кучей оторочек
рука в нём пропадала летом
с каким-то маленьким предметом
донос строчат известные всем трубы
в кармане её губы
(пер. А. Прокопьева)
Если подыскивать этим стихам отдаленные русские аналоги, первым делом на ум приходит поэзия обэриутской линии — от собственно Хармса и Введенского до, например, Владимира Богомякова — чьи абсурдные истории из жизни обывателей, правда, не в пример добрее. Но стихи-коллажи Мюллер сообщают нам все же о другом опыте — узнаваемом, но будто бы полускрытом за экраном чужого языка. Хорошо, что это ощущение «полускрытости» удалось передать в переводах.
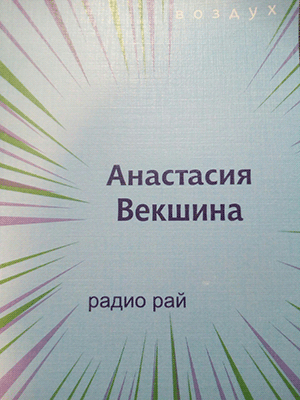 Анастасия Векшина. радио рай. М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2018
Анастасия Векшина. радио рай. М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2018
Вторая книга поэтессы и переводчицы Анастасии Векшиной — один из самых сильных за последнее время аргументов в пользу того, что русская поэзия может быть по-настоящему космополитичной. «Ходила на выборы. Кроме моей / на листе заполнена только одна строка. / Значит, из нашего дома / больше никто не пришёл. / Мне сказали, что я патриот. / Но я экспат». Первая строфа одного из стихотворений — вполне «говорящая», но финал этого стихотворения — «Люди отдали птицам свои голоса. / Ни одна партия никуда не прошла» — «говорящая» еще больше: птица, которой нет дела до границ, установленных людьми — подходящий символ для поэзии Векшиной. Ее стихи очерчивают собственное географическое пространство, некий балто-славянско-скандинавский космос. Здесь много о дорогах, воздухе — о пространственных медиумах, посредниках между точкой А и точкой B. В каждой точке этого космоса героиня стихов — «своя», но обладает способностью к отрешенному взгляду; умеет стать «не своей», внеположной. На время забыть, что эти пейзажи — чем-то родные, воспроизвести любопытство гостя. Снять кино в голове, пересказать историю.
медузы еще выбрасываются на берег, но понемногу,
чтоб не будить лишней жалости в прогуливающихся вдоль моря,
розовые и прозрачные, блестящие, как огромные слезы,
неуместные, как воздушный шарик с непонятными буквами,
что пролетел две тысячи километров из Кракова в Нюнесхамн
и приземлился прямо в руки местному жителю.
местный житель подумал и написал письмо тем, кто выпустил шарики,
и получил в ответ приглашение,
и собрал чемоданы,
и запер калитку,
и вот он уже в пути.
Растерянность новичка здесь смешана с авантюризмом: «стоишь как дурак, а вокруг вырастает площадь / новая площадь / в совершенно новой стране», «кричит судьба / по громкой связи / на незнакомом / языке». У Векшиной — серьезный опыт путешествий и культурной навигации, но мастерство в том, чтобы не дать его почувствовать. «польское радио испанское радио радио Белград» — места с передней панели советской радиолы в наше время перестали быть недоступными и призрачными, сигналы, поступающие в мозг, чередуются в быстром шаффле, и Анастасия Векшина передает это очень точно; ее стихи заставляют сопереживать говорящей, ощутить её ностальгию — но и не позволяют сомневаться, что в этом путешествии по большому пространству без границ ей будет сопутствовать удача и найдутся, как в пропповских схемах, волшебные помощники:
Водители Тадеуш и Зенон
приветствуют вас на борту автобуса из Латвии в Литву.
Вам предстоит увидеть из окна,
как лис трусит по вспаханному полю,
сова измерит скорость, как радар
крылом помашут цапли, и орёл
покажет, как поймать и слопать мышь.
А если вышеперечисленные звери
не захотят сегодня появиться,
то, может быть, вам повезёт на трассе
увидеть голого геодезиста.
Он очень загорелый, мускулистый,
на голове футболка как тюрбан.
Он ночью подрабатывает в клубе,
и там загар ему необходим.
А если и геодезист сегодня спит,
тогда смотрите просто, как лежит
в пыли потерянная кем-то рукавица.
Привет, кому здесь выпало родиться.
Желаем вам счастливого пути.
Архангелы
Тадеуш и Зенон.
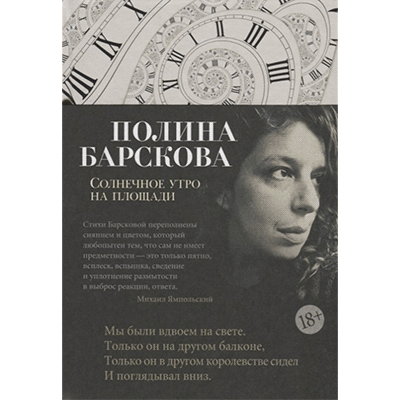 Полина Барскова. Солнечное утро на площади. СПб.: Азбука, 2018
Полина Барскова. Солнечное утро на площади. СПб.: Азбука, 2018
«Азбука» запустила новую и относительно многотиражную поэтическую серию, в которой наряду с классикой (Гумилев, Цветаева и безотказный персидский паровоз Омар Хайям) выходят книги современных авторов: пока что опубликованы сборники Ольги Седаковой, Дмитрия Быкова, Дмитрия Воденникова — и вот это большое избранное Полины Барсковой. Начинающаяся с совсем детского текста 1984 года, книга «Солнечное утро на площади» показывает поэтический путь Барсковой по всем ее сборникам — от вундеркиндского «Рождества» 1991 года до прошлогодней «Воздушной тревоги». Становится видно, как Барскова, с детских лет впитавшая классическую русскую просодию, все уверенней занимала позицию в старом споре между точностью (и порой неприглядностью) смысла и красивым обманом звучания. Ее поэзия просодически выверена, от вещей 2000-х — скажем, из сборников «Эвридей и Орфика» и «Арии» — до сих пор, как бывает с классическим русским стихом, захватывает дух. При этом уже в них непременно бывает какая-нибудь маленькая лексическая деталь, что-то физиологическое, стыдное, то-о-чем-не-говорят:
Вот он лежит, похожий на глаз огромный целки Иоканаана.
Нету на свете такого глубокого океана,
Чтобы вместил в себя этот зрачок, реснички.
«Что ты всё бродишь, милый? Что ты всё бродишь, милый?
Что ты там ищешь, милый?» — «Спи, дорогая. Спички».
Это о Поликратовом перстне, который возвращался к владельцу. Одни говорят — везет, другие ужасаются. Поэту может повезти или не повезти, и таким перстнем к нему будет возвращаться одна большая тема. В случае Полины Барсковой это — история; начиная где-то со сборника «Сообщение Ариэля» (2010) в ее стихи властно входит то, чем она занимается как ученый: блокада Ленинграда, голоса писателей-блокадников. Барскову завораживают изъятые из жизни люди: их возвышенное — и их стыдное, вытекающее, человеческое, слишком человеческое. Звучание стихов меняется, почти ломается под суровым гидравлическим испытанием. Они имитируют голодные, полубезумные дневники («Справочник ленинградских писателей-фронтовиков 1941–1945»), превращаются в диалоги давно ушедших писателей с тем, кто разбирает их архивы: к издевательскому рецензионному пассажу Михаила Кузмина «Мы выражаемся мягко, не забывая ни минуты, что переводчица — дама» тут же прибавляется «Не забывая что переводчица — яма / На Серафимовско-Пискаревском, / Со ртом без вставной челюсти обмякшим».
Тема блокады, одна из тех, что в последние десятилетия усилиями немногих заново (если не впервые) проговаривается, у этих немногих часто звучит именно так — через воображаемый диалог если не голосов, то разных типов письма и сознания (можно вспомнить роман Игоря Вишневецкого «Ленинград», поэму Сергея Завьялова «Рождественский пост» и пьесу самой Барсковой «Живые картины»). Стихи Барсковой, напитавшись диалогом, становятся менее классичными, более суровыми — и притом более открытыми. Потому когда в недавнем стихотворении «(После войны оказался на Западе)» (формулировка, за которой в советских биографических справках скрывался неудобный статус ди-пи или, того хуже, «отступившего с немцами») появляется «старуха Гиппиус с просторным кадыком», мы ей уже совсем не удивляемся — удивляемся только тому, как, пройдя через этот просторный старческий кадык, поэтическая речь вновь обретает металлический гром чего-то вроде Dies irae:
«Эх вы Иуды, ***** в рот:
Век подотрет за вами это
Как документы — тени жжет и рвет
Парижское беспамятное лето
И жесты скверные
ужасных стариков
По-воровски поспешно спрячем
И самый смысл переиначим
их совершенно невозможных слов»
Геополитика! Тевтоны у границ!
Огонь и наважденья рейха!
Старуха Гиппиус брезгливых кормит птиц
Под ней шатается скамейка
А на скамейке, сбоку от нее
Все, кто ушел по льду, по илу
В самопроклятие, в безвидное житье —
В по-смертия воздушную могилу.
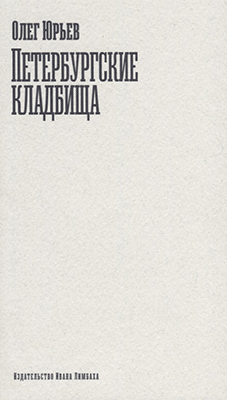 Олег Юрьев. Петербургские кладбища. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018
Олег Юрьев. Петербургские кладбища. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018
Умерший этим летом Олег Юрьев, один из лучших русских поэтов 1980–2010-х, успел сам подготовить этот сборник. В него вошли стихи, написанные после вышедшей в 2016-м книги «Стихи и хоры последнего времени»; увы, «последнее время» вскоре обрело трагический второй смысл. К смерти, кажется, он был готов — в «Петербургских кладбищах» есть даже стихотворение, при жизни печатавшееся как восемь строк отточий и только посмертно, по желанию автора, раскрытое. Эта книга вообще пронизана предчувствием конца — при том, что у Юрьева, жившего в Германии, в стихах последних лет десяти и так слышалось настоятельной силы «dahin, dahin»: «....туда и полетим, где мостовые стыки / Сверкают на заре, как мертвые штыки… <…> Где солнцем налиты железные стаканы, / Где воздух на лету как в зеркале горит, / Где даже смерть любимыми стихами / Сквозь полотенца говорит». Это стихотворение входило в книгу «О Родине», и Родина была для Юрьева в том числе потусторонним Петербургом/Ленинградом — иллюзорным и гиперреальным одновременно. В загробной Родине Юрьев был уверен: «там есть тоже ленинград / с красно-черным небом в мае / мы поедем в летний сад / на тринадцатом трамвае».
Помимо мостов, каналов, Летнего сада, в этом городе есть и кладбища — места, подлежащие обжитию; места встревоженного разговора с памятниками и с теми, кто под этими памятниками лежит.
на бедных кладбищах неблизких
лежать среди кореньев склизких
внизу — кирпичная вода
вверху — стальные провода
Невольно жаль — хотя это очень понятно, — что Юрьев, чьи стихи всегда помнят о смерти и посмертии, но всегда исполнены жизненной энергии, был в последние свои годы так поглощен кладбищенскими мыслями. Но и в этих мыслях он достигал знакомой по его прежним сборникам поэтической филиграни:
где белые и красные стволы
колоннами бегут вдоль треугольных просек
накрыты круглые столы
для синих птиц нагнувших желтый носик
и я и я бы тронулся туда
где свет искрится тени завивая
но нету сил для смертного труда
и поезд едет мимо завывая
Метрика этого стихотворения архаична, как и лексика многих других текстов Юрьева («говор жалкий и забвенный», «над мреющей рекой», «штоф», «обонпол») — но никогда не возникает ощущения их «заранее-подготовленности»: Юрьев будто развил в себе способность говорить сразу, одним дыханием — и потому рядом с риторически выверенными стихами совершенно уместны стихи бормочущие, скороговорки, заклинания. Впрочем, здесь есть и следы торопливости: например, строки «водить нас будут вдоль реки / вдоль лязга ее банного» — Юрьев в полной силе не допустил бы такого faux pas. Судить по одному этому сборнику обо всей его поэзии нельзя — но он может приоткрыть в нее дверь и дать представление о ее корнях. Великолепный и пристрастный знаток русской поэзии, Юрьев соединил в своей родословной, которую всякий поэт избирает себе сам, XVIII век, тютчевскую ноту и обэриутство; в стихотворении «Вспухают и горят плеяды» боги, которые «бросают пустые чаши / на дымный для нас потолок а для них пол» — это и утратившая смешливость Геба из школьного стихотворения про грозу в начале мая, и мандельштамовские отцы, лишившие поэта чаши на своем пире, и герои «Ответа богов» Введенского. Этот разговор поэта с поэтами не умолк — нам остается возможность в него вникать, хоть и с горечью. «Поскучайте мимолётом по мне», — такова смиренная просьба в финале одного из стихотворений. Мы очень скучаем.
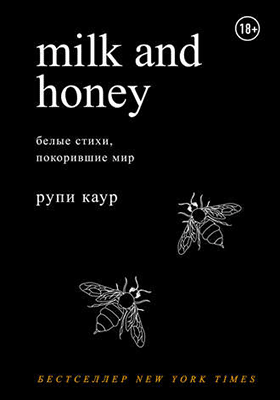 Рупи Каур. Milk and Honey / пер. с англ. А. Мартыновой. М.: Издательство «Э», 2018
Рупи Каур. Milk and Honey / пер. с англ. А. Мартыновой. М.: Издательство «Э», 2018
С именем молодой американской поэтессы индийского происхождения Рупи Каур связывают понятие instapoetry: это такие поп-верлибры, состоящие из двух-трех-четырех (редко больше) строк. Эти глубокомысленные тексты размещаются на подходящем фоне в инстаграме — критики, любящие «серьезную поэзию», плюются, подписчики в экстазе, сотни тысяч лайков монетизируются в миллионные продажи. Книги «Milk and Honey» натурально продано 2 000 000 экземпляров — нашим Ах Астаховой и Соле Моновой до Каур пока что как до луны. Об инстапоэтах приходилось слышать довольно точное мнение: они пишут тексты столь расплывчатые и в то же время афористичные, что подходят они на любой случай жизни: и если тебе хорошо, и если тебе грустно. У книги Каур, однако, есть сквозной сюжет, выраженный в названиях ее частей: «боль — любовь — разрыв — исцеление», и сквозная тема — тоже универсальная: это преодоление стереотипов, подчиненной социальной роли, обретение достоинства. Как правило, речь идет об опыте насилия, боли, принуждения к молчанию, сексуальной эксплуатации:
тебя
научили
считать свои ноги
пит-стопом для мужчин,
ищущих место для отдыха,
свое тело достаточно пустым
для гостей, но ни один из них
никогда не приходил
с желанием
остаться
Это ромбовидное стихотворение вписано в рисунок раскрытых женских ног; взаимодействие текста и графики — вообще частый прием Каур. Приведенный пример — относительно длинный текст; чаще у Каур можно встретить нечто более короткое и, как говорится, ванильное:
она была розой
в руках тех,
кто не собирался
за ней ухаживать
Или, уже без социального подтекста, чистая любовная лирика, которой в книге Каур посвящен свой раздел:
ты коснулся меня
безо всякого прикосновения.
(В оригинале поизящнее: “you’ve touched me / without even / touching me”; вообще к легкости и ясности переводов есть кое-какие нарекания; «я ждала тебя» — это совсем не то же, что “i am ready for you”; у многих слов вроде “loving myself” и “come” есть отчетливый двойной смысл, не везде переданный.)
Иногда Каур отказывается от всякого смыслового сдвига, просто записывая «в столбик» очевидные вещи: «секс происходит с согласия двух, / и, если он притворно не видит, / что она не готова, / не в настроении / или просто не хочет, / и продолжает любить ее тело, / не любовь это — / изнасилование». Беда в том, что эти очевидные вещи для многих по-прежнему не очевидны — и, вероятно, от такого квазипоэтического их проговаривания есть прок. Будучи собранными в одну книгу, тексты Каур, однако, производят впечатление цельной поэтики: ложно многозначительная, легко тиражируемая, сверхдемократичная, она все же примета времени, и справляется с задачей пробуждения «чувств добрых» не хуже другой поп-поэзии. Эротические стихи Каур показательно сравнить с эротическими стихами Веры Павловой: при схожести мотивов и общей тяге к миниатюре Павлова склонна к куда более сложной — sophisticated — языковой и звуковой игре, даже когда тема стихотворения достаточно трагична. Нам тем временем, видимо, стоит ждать русских поп-верлибров — а может, они уже есть, надо бы проверить по тэгам в инстаграме.