Понять и не простить: «Фашисты» Майкла Манна
Николай Проценко о новой книге про рождение тоталитарной Европы
В издательстве «Пятый Рим» вышла новая книга выдающегося социолога Майкла Манна, посвященная становлению ультраправых диктатур и, среди прочего, их будущему в современном мире. Николай Проценко внимательно изучил книгу и делится мнением, почему вопрос о том, кто такие фашисты и откуда они взялись, можно считать закрытым.
Майкл Манн. Фашисты. Социология фашистский движений. М.: 2019. Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память», издательство «Пятый Рим», ООО «Бестселлер». Перевод с английского Натальи Алексеевой, Сергея Алексеева, Владимира Туза, Натальи Холмогоровой, под научной редакцией Александра Дюкова
Живой классик исторической макросоциологии Майкл Манн принадлежит к тем авторам, которые всю жизнь по большому счету пишут одну книгу. Поэтому для тех, кто хотя бы в общих чертах знаком с манновской концепцией четырех источников социальной власти (политического, экономического, военного и идеологического), его книга о фашистах вряд ли откроет какие-то новые теоретические глубины. Собственно, «Фашисты» и представляют собой разросшуюся до целой монографии главу из главной книги Манна, четырехтомника «Источника социальной власти», и предваряют еще одну его работу о современном массовом насилии — «Темную сторону демократии», опубликованную на русском в 2016 году. Объяснение, которое дает Манн фашизму, видя в нем реакцию на общеевропейский кризис, начавшийся после Первой мировой войны, также в целом не претендует на оригинальность. Но главная ценность книги в другом — в громадном эмпирическом материале, который Манн смог собрать и систематизировать. Благодаря его книге ответ на вопрос о том, кто такие фашисты и откуда они взялись, в целом можно считать закрытым.
«Майн Кампф» — это серьезно
В отличие от посвященной этническим чисткам ХХ века «Темной стороны демократии», которую лучше не читать слабонервным, в «Фашистах» Манн исследует генезис и приход к власти фашистских движений на шести примерах: Италия, Германия, Австрия, Венгрия, Румыния, Испания. Каждый из них, считает Манн, по-своему уникален, и нет единого универсального набора факторов, которым можно объяснить становление всех фашистских режимов.
Однако общие черты у них, безусловно, есть. Манн выделяет пять таких характеристик: национализм, этатизм, трансцендентность (фашизм заявляет о готовности «превзойти» общественную и классовую борьбу, включив все группы интересов в корпоративистские институты государства), чистки и парамилитаризм. Последнюю особенность Манн называет главной ценностью и ключевой организационной формой фашизма.
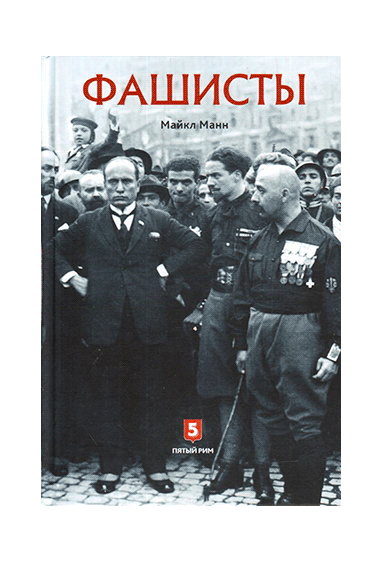
«Фашизм — это попытка создать трансцендентное национальное государство, при помощи парамилитаризма проведя народ через чистки». Так звучит базовое определение фашизма в книге Манна. Более того, он представляет собой «радикальную парамилитарную версию национального государства... Это было самое крайнее выражение господствующей политической идеологии нашей эпохи». При этом Манн, в отличие от многих других историков и социологов, бравшихся за эту тему, неоднократно подчеркивает: ко всем декларациям и идеям фашистов он будет относиться предельно серьезно.
«Не стоит отмахиваться от них, называя безумными, противоречивыми или бессодержательными... Фашизм — вовсе не тупиковая ветвь развития современного общества... не случайное отклонение... Фашизм — это, хотим мы того или нет, могущественная движущая сила Нового времени. В ХХ веке он был одной из ведущих политических доктрин всемирно-исторического значения... Фашизм был движением высоких идеалов: он сумел убедить значительную часть двух молодых поколений в том, что несет с собой более гармоничный общественный порядок... Понять фашизм — значит понять, как во имя, казалось бы, высоких идеалов современности люди творили зло, которому нет оправдания», — так Манн аргументирует свою исследовательскую позицию во вводных главах.
К этой же мысли он возвращается в эпилоге, задаваясь, в сущности, тем же вопросом, который волновал советских публицистов: как могла нация Шиллера и Гете совершить такие ужасающие преступления? «Если бы побольше немцев взяли на себя труд дочитать до конца „Майн Кампф“, дальнейшая эволюция Гитлера стала бы для них более предсказуемой», — таков парадоксальный ответ Манна на вопрос о том, почему значительная часть немцев столь опрометчиво отдала свои голоса партии Гитлера на выборах 1933 года.
Классы решают не всё
Отвечая на вопрос о важнейших причинах того, почему фашизм завоевал популярность масс, Манн бросает основную часть своей интеллектуальной энергии на то, чтобы опровергнуть самое очевидное объяснение: фашизм был порожден экономическими проблемами, с которыми большинство европейских стран столкнулись после Первой мировой, и, стало быть, может быть объяснен в классовой логике. Такой ход мысли логично вытекает из общей манновской теории четырех источников социальной власти, которая предписывает любое значимое явление в обществе объяснять таким же количеством базовых факторов.
Особенно критично Манн относится к известному представлению о том, что фашизм (прежде всего в германской его версии) был движением некоего условного среднего класса, пострадавшего от Великой депрессии — тех самых бюргеров и мелких лавочников, которые, как считается, и принесли победу Гитлеру. Да, фашизм зародился в недрах среднего класса — как и большинство политических движений, признает Манн, но едва он превратился в массовое политическое движение, его привязка к среднему классу сошла на нет: «Большинство членов крупных фашистских движений не были ни членами среднего класса, ни экономически обездоленными. После 1930 года ни сами нацисты, ни те, кто за них голосовал, в основном не принадлежали ни к буржуазии, ни к мелкой буржуазии. Они черпали свою поддержку из всех классов». Ни одна из теорий, увязывающих фашизм со средним классом, не выдержала проверки временем, резюмирует Манн.
Столь же скептически он относится и к классической советской гипотезе, объяснявшей триумф Гитлера его сговором с крупнейшими немецкими промышленниками. В отличие от Италии, где приход к власти Муссолини, согласно Манну, вполне можно рассматривать как перестраховку капиталистов от социалистической революции, в Германии коллективной и исключительной вины капиталистов в победе НСДАП не было.
Хотя в стороне от этих событий магнаты не остались. По-видимому, предполагает Манн, больше всего симпатизировали нацистам владельцы крупных газет и кинопромышленники во главе с радикальным националистом Альфредом Гугенбергом, хозяином крупнейшей медиаимперии. «Он совершил историческую ошибку, принявшись рекламировать Гитлера и нацизм, ибо полагал, что это повысит и его ставки. Большинство многотиражных газет того времени были аполитичны, предпочитали публиковать криминальную хронику, скандальные сплетни и новости спорта. О нацистах они упоминали вкратце, но, как правило, невраждебно. Солидная пресса в основном поддерживала буржуазные партии, считая их противовесом интернациональным марксистским партиям... разлагающим нацию, государство, семью и немецкий дух».
Нацистский социализм был для них столь же неприемлем. Но когда буржуазные партии пришли в упадок, некоторые газеты начали писать о нацистах как о несгибаемых патриотах. «Бесстрашные и безжалостные борцы за нацию», — так описывала их в 1932 году Rheinisch-Westfälische Zeitung. Нацисты начали получать более выгодное освещение в прессе, что увеличило их популярность.
Манн ненавязчиво, но последовательно сдвигает основной акцент своей аргументации в сторону другого источника социальной власти — идеологического.
Ловушка для интеллектуалов
 Мартин Хайдеггер, около 1920
Мартин Хайдеггер, около 1920Имя Мартина Хайдеггера в книге Манна не упоминается ни разу, но острота полемики, которая уже много десятилетий ведется вокруг продлившегося всего несколько месяцев активного сотрудничества философа с нацистской партией, напоминает об одном из главных вопросов, которым задается автор: почему фашистские движения получали поддержку интеллектуалов, преимущественно гуманитариев?
Все дело в том, полагает Манн, что фашистские идеи поддерживались главным образом молодыми поколениями и особенно легко распространялись через два института социализации молодежи: армию, которая воспитывала в ней милитаризм, и систему образования, внушавшую идеи морального прогресса.
«Экстремальные сторонники нации-государства, прежде всего фашисты, продвигали и пропагандировали культ молодости. Фашизм был молод и, следовательно, современен, он был обществом будущего — вот что внушали фашисты своим юным сторонникам, и именно у молодежи неизменно находили свою основную поддержку», — и нет ничего удивительного в том, что во всех европейских странах, где после Первой мировой восторжествовали авторитарные режимы, непропорционально высокую долю фашистов составляли высокообразованные профессионалы, а также студенты высших учебных заведений, университетов, семинарий и военных академий.
Это явление Манн также объясняет, исходя из разных источников социальной власти. Экономическое объяснение состоит в том, что высокообразованные профессионалы и студенты не могли найти работу и оттого склонялись к политическому радикализму, а господство в континентальных системах образования университетов немецкого типа способствовало распространению подобных идей. Однако нельзя забывать о том, что общество наделяет интеллектуалов идеологической властью, и на кризис смыслов именно интеллектуалы начинают искать ответ первыми.
«В сущности, высокообразованные люди, увлеченные фашизмом, не принадлежали к тем, кто больше всего страдал от экономических потрясений. По-видимому, они обращались к фашизму, привлеченные идеей государства-нации, превосходящего классовые и иные различия», — считает Манн.
Это и есть случай Хайдеггера, который на момент прихода к власти Гитлера заведовал кафедрой философии во Фрайбургском университете и уже состоялся как мыслитель с мировым именем. С ним схож и опыт Карла Шмитта, подробно разобранный в «Фашистах».
В 1920-х годах Шмитт, по мнению Манна, был просто консерватором без приверженности какому-то конкретному режиму: он восхищался Муссолини, но не Гитлером, стремился создать теорию современного конституционного строя на твердом юридическом фундаменте абсолютного правового принципа, в котором искал надежности, а не риска. Но по мере нарастания хаоса Шмитт стал склоняться к идее, что для спасения от него «опустевшие» центры государственной власти должна занять новая правящая элита, стоящая над обществом. Это и привело его сначала к поддержке полуавторитаризма рейхсканцлеров Брюнинга и фон Папена, а затем и к поддержке Гитлера и нацизма.
Однако те интеллектуалы, которые становились на позиции традиционалистской реакции и видели в фашизме нечто вроде возрождения традиций, жестоко просчитались. Фашизм, настаивает Манн — это явление сугубо модернистское, а точнее даже гипермодернистское, учитывая индустриальные масштабы и технологии геноцида, описанные в «Темной стороне демократии». Чтобы прийти к власти, фашисты предлагали соблазнительные решения для экономического, военного и политического кризисов своей эпохи и сообщали о них, изобретательно используя модернистские приемы массовой коммуникации. Кроме того, успешные фашистские движения старались модернизировать и национализировать чувство священного. Именно поэтому тема техники становится важнейшей в запоздалой рефлексии Хайдеггера сразу после Второй мировой, столь отличающейся от его работ начала 1930-х годов с их апелляцией к «духу народа».
Можем повторить?
Имел ли фашизм и — шире — консервативный авторитаризм исторический шанс на долгосрочное закрепление в Европе в качестве состоявшегося типа политического режима? Манн склоняется к положительному ответу на этот вопрос, обращаясь к итальянскому опыту. Режим Муссолини, по его мнению, выполнил свои главные обещания: пережил Великую депрессию (хоть и не так успешно, как хотел) и утвердил положение Италии как великой державы, а по масштабу репрессий оказался чуть ли не «вегетарианским».
«Крепко утвердившись во власти, приблизительно с 1926 года режим, по-видимому, достиг широкой, пусть и не очень горячей народной поддержки и почти перестал нуждаться в насилии. Введение особых судов и тайной полиции не привело к террору: 80% обвиняемых по политическим статьям были оправданы, а большинство приговоренных получили сроки не более трех лет. С 1927 по 1940 года было совершено всего девять политических казней. Еще двадцать два смертных приговора было вынесено во время войны. Интересно, что большинство казненных были словенскими националистами. За все время Второй мировой войны фашистский режим приговорил к смерти лишь девяносто двух итальянских солдат: можно сравнить с 40 тысячами смертных приговоров, вынесенных его либеральным предшественником в Первой мировой войне, или с 35 тысячами смертных приговоров у его союзников, в германском вермахте», — таков чуть ли не апологетический портрет власти Муссолини, который, впрочем, не смог избежать роковой ошибки, вступив во Вторую мировую войну.
Вполне жизнеспособным оказался и испанский вариант: сохранив нейтралитет во Второй мировой, Франко смог продержаться у власти до самой смерти в 1975 году. Здесь Манн также дает тонкий анализ экономических предпосылок сохранения консервативно-авторитарного режима: «Посмотрим на испанских капиталистов 1939 — конца 1960-х, верных сторонников генерала Франко, обреченных на стагнирующую, неэффективную экономику и минимальную прибыль. Почему испанский капитализм привел к власти Франко и неизменно его поддерживал? При Второй республике капиталистам определенно жилось бы лучше, чем сейчас, при Третьей. По всей видимости, ими двигал более фундаментальный для капиталиста мотив — точнее, мотив, свойственный всем имущим классам в истории: желание сохранить собственность и привилегии. К черту прибыль, если под угрозой сама собственность! Прибыль относительна, она измеряется количественно, ею приходится делиться, прибыль, как правило, возрастает благодаря классовому компромиссу. Но право на собственность неделимо, игра с собственностью — игра с нулевой суммой. Если вы получите право на мою собственность, я ее потеряю. Страх перед потенциальной утратой собственности эмоционально гораздо сильнее, чем страх недополучить прибыль. Можно полюбовно договариваться о дележе доходов, но не на жизнь, а на смерть бороться за право на свою собственность. Марксистам, право, не стоило бы так увлекаться буржуазной экономикой... Главная классовая мотивация капиталистов — не прибыль, а защита собственности».
К вопросу о том, может ли в сегодняшних условиях возникнуть нечто вроде межвоенного фашизма, Манн обращается к концу книги и дает на него вполне однозначный ответ: нет. Не питая ни малейших симпатий к современному правому популизму, Манн не склонен преувеличивать его риски, аттестуя соответствующие политические партии как фашистские. Для этого, по его мнению, у них все же недостаточно формальных признаков. Например, нет серьезных парамилитарных формирований, а если какие-то самодеятельные активисты все же прибегают к уличному насилию против мигрантов, то руководители правых партий считают, что это лишь отбирает у них голоса добропорядочных граждан.
 «Радикальные популистские партии могут создавать проблемы, но учитывая, что европейские системные партии адаптируются под меняющееся макропространство и гибко реагируют на требования граждан, в Европе фашизм побежден, мертв и похоронен. После страшного ХХ века хотя бы это может послужить европейцам утешением», — резюмирует Манн, полагая, что послевоенная Европа все же нашла надежное средство против фашизма — таковым оказывается институционализированная либеральная демократия.
«Радикальные популистские партии могут создавать проблемы, но учитывая, что европейские системные партии адаптируются под меняющееся макропространство и гибко реагируют на требования граждан, в Европе фашизм побежден, мертв и похоронен. После страшного ХХ века хотя бы это может послужить европейцам утешением», — резюмирует Манн, полагая, что послевоенная Европа все же нашла надежное средство против фашизма — таковым оказывается институционализированная либеральная демократия.
Однако угроза появления чего-то сильно напоминающего фашизм по-прежнему сохраняется в рамках «глобального Юга», где все чаще будут появляться фашиствующие движения. Если Север под руководством США продолжит порочить перед Югом привлекательность мягкого, демократичного национального государства своей капиталистической эксплуатацией, американским военным империализмом и усилением неравенства между Севером и Югом. Тогда, полагает Манн, нашим потомкам, возможно, придется иметь дело с новыми социальными движениями, сильно напоминающими фашизм с социалистическим окрасом, опирающимися на те местные идеологические источники сопротивления, которые смогут мобилизовать. Как например, уже поступают сейчас исламские, и не только, радикалы.
«Подождем, пока неолиберализм, якобы способный обойтись вовсе без государства, причинит миру столько же вреда, — и, быть может, неприязнь к сильному государству померкнет. Радикальные этатистские ценности снова сольются с радикальным парамилитарным национализмом в движениях, напоминающих фашизм, — если мы только не извлечем урока из истории, о которой я рассказываю в этой книге. Едва ли новые движения станут называть себя фашистскими: слово это сейчас слишком одиозно. Однако суть фашизма жива и сейчас».
Правоту прогноза Манна мы, скорее всего, сможем оценить уже довольно скоро, судя по нарастающей глобальной волне роста популизма, которая рано или поздно сольется с очередной волной экономического кризиса. Органический национализм и парамилитарные движения, приверженность этническим и политическим чисткам — эти предпосылки возникновения фашизма, предупреждает Манн, живы до сих пор. И привлекают миллионы людей во всем мире.