Покажи мне мертвые звезды, они все поют: книги недели
Что спрашивать в книжных
Кто управляет российскими регионами, во что превратились литературные идеи при Сталине, почему греки гадали так, а не иначе, как читать книги и что скрывает четвертая страница обложки? Как обычно по пятницам, редакторы «Горького» сами задают себе вопросы и ищут на них ответы в «Книгах недели».
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Александр Кынев. Кто и как управляет регионами России. Система управления и административная устойчивость власти российских регионов. М.: Рутения, 2024. Содержание. Фрагмент
 Политолог Александр Кынев — один из лучших российских экспертов по региональной политике. В частности — по выборам, про их совместное с Аркадием Любаревым исследование деградации партийной системы в России мы недавно писали в рубрике «Книги недели». Анализ Кынева всегда фактически обоснован и чужд приукрашивания реальности в угоду политическим предпочтениям, при том что в сущностно демократических взглядах автора сомневаться не приходится.
Политолог Александр Кынев — один из лучших российских экспертов по региональной политике. В частности — по выборам, про их совместное с Аркадием Любаревым исследование деградации партийной системы в России мы недавно писали в рубрике «Книги недели». Анализ Кынева всегда фактически обоснован и чужд приукрашивания реальности в угоду политическим предпочтениям, при том что в сущностно демократических взглядах автора сомневаться не приходится.
«Кто и как управляет регионами России» — опус магнум, где детально описано, как менялась система регионального управления с распада СССР до времен позднего путинизма. Кынев досконально (600 с лишним страниц, шутка ли) разбирает, как именно локальные элиты, способные проводить самостоятельную политику, оказались низведены до положения менеджеров, выполняющих приказы федерального центра в ожидании ротации. Исследование могло бы читаться почти детективно, если бы не суровый стиль изложения, к которому нужно привыкнуть.
Работу Кынева следует смело рекомендовать всем, кто всерьез интересуется вопросом, как в России организована исполнительная власть — по меньшей мере на высшем уровне. По прочтении можно сделать как минимум два обоснованных вывода: первый — Россия крайне далека от распада, как бы ни трезвонили пропагандисты об обратном, второй — существующая система управления не только препятствует возникновению сильной региональной оппозиции, но и весьма, весьма устойчива. Как говорится, нам с этим жить.
«...Россия — это абсолютно другая реальность, которая не свойственна ни одной европейской стране. Эти огромные размеры и различия регионально-политических культур затрудняют формирование любой значимой и сильной оппозиции, потому что для ее формирования нет сопоставимых ресурсов. Оно делает очень сложной любую борьбу на национальном уровне. То есть, чтобы потерять власть, должен произойти некий идеальный шторм: перемены в России почти всегда происходили в итоге катастроф, вызванных негативным сочетанием разных факторов — экономических, геополитических, военных и прочих.
Значит ли это, что ничего сделать нельзя? Нет, не означает».
Андрей Юрганов. Советская литература и Сталин (20-е — начало 30-х годов). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2024. Содержание
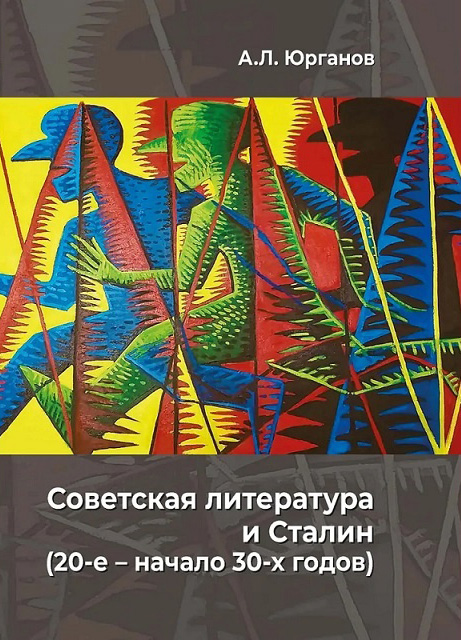 Сюжет этого исследования вполне привычен и хорошо разработан: как многоцветье литературы 1920-х годов превратилось в то, во что превратилось, какие умелые действия для этого потребовались, через какие этапы пришлось пройти тем, кто даже подумать не мог, чем все это кончится, и т. п. Необычен подход автора — речь в книге идет не столько об авторах и их произведениях, сколько о литературных и окололитературных идеях, их столкновениях и организующей силе, причем особенно любопытно получается на уровне генерализации: кто-то продолжал развивать модернистские тенденции, кто-то вернулся к утилитарному позитивизму, имажинисты вместо ницшеанства обратились к философии Фихте и т. п. А поворотным пунктом во всей этой истории стал возникший с легкой руки Иосифа Виссарионовича Культ Ошибки: сложилась ситуация, в которой все всегда в чем-нибудь виноваты, должны каяться, перековываться и в результате превратились в податливую массу, с которой можно делать все что угодно.
Сюжет этого исследования вполне привычен и хорошо разработан: как многоцветье литературы 1920-х годов превратилось в то, во что превратилось, какие умелые действия для этого потребовались, через какие этапы пришлось пройти тем, кто даже подумать не мог, чем все это кончится, и т. п. Необычен подход автора — речь в книге идет не столько об авторах и их произведениях, сколько о литературных и окололитературных идеях, их столкновениях и организующей силе, причем особенно любопытно получается на уровне генерализации: кто-то продолжал развивать модернистские тенденции, кто-то вернулся к утилитарному позитивизму, имажинисты вместо ницшеанства обратились к философии Фихте и т. п. А поворотным пунктом во всей этой истории стал возникший с легкой руки Иосифа Виссарионовича Культ Ошибки: сложилась ситуация, в которой все всегда в чем-нибудь виноваты, должны каяться, перековываться и в результате превратились в податливую массу, с которой можно делать все что угодно.
«Что „дело“ обстояло гораздо сложнее — чистая правда. Дабы писатель никогда не понял, что от него требуется, было сказано, что товарищ Сталин говорил в своей речи о борьбе за „ленинский метод пролетарской литературы“. Что это за метод? „Дать художественный образ новой пролетарской интеллигенции может только такой художник, который умеет видеть действительность диалектически, в движении, в росте, который вооружен марксистско-ленинским мировоззрением“. Это требование таило в себе пугающую неопределенность: ведь чтобы стать пролетарским писателем, надо не только быть им по происхождению, но и овладеть диалектикой, ленинским методом, который очевидным образом не может быть усвоен сразу, а по смыслу редакционной статьи — присущ только одному Сталину...»
Огюст Буше-Леклерк. История гадания в античности. Т. I-II. СПб.; Саратов: Амирит, 2024. Содержание
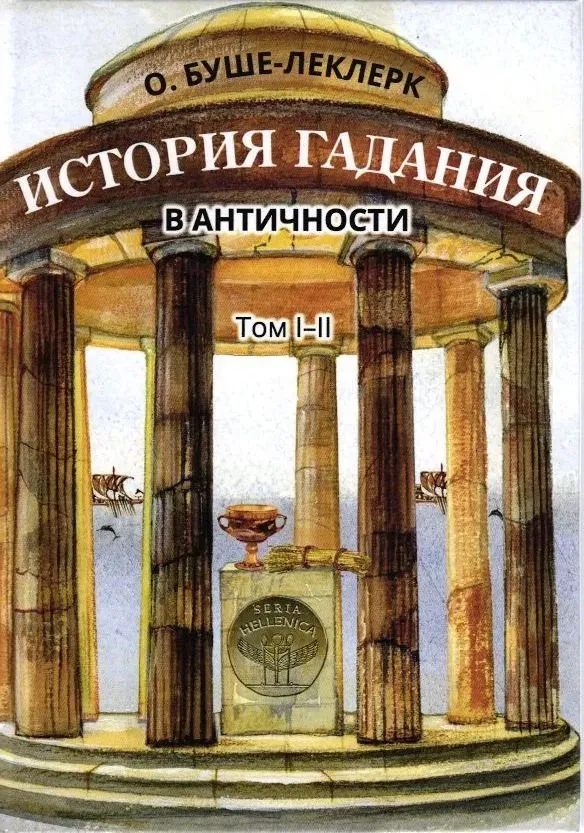 Фундаментальность иных антиковедческих трудов прошлых столетий впечатляет: положим, гадали потомки Геракла и Энея немало, но, когда первые два тома истории этого почтенного занятия занимают семьсот с лишним страниц, далеко не всякий решится взять такое в руки. Впрочем, не считая заинтересованных специалистов, до такой литературы всегда найдутся охотники из числа ценителей энигматических практик, дающих неопределенные результаты, и тут им будет чем поживиться — Огюст Буше-Леклерк (1842–1923) старался не упускать ни малейшей подробности, повествуя о гаданиях по внутренностям, неодушевленным предметам, жребиям, светилам и т. д. и т. п. Особенно рекомендуем эту книгу тем, кто давно мечтал разобраться в различиях онейроскопии и онейрокритики, пальмического и математического ведовства, а также освоить астрологическую морфоскопию.
Фундаментальность иных антиковедческих трудов прошлых столетий впечатляет: положим, гадали потомки Геракла и Энея немало, но, когда первые два тома истории этого почтенного занятия занимают семьсот с лишним страниц, далеко не всякий решится взять такое в руки. Впрочем, не считая заинтересованных специалистов, до такой литературы всегда найдутся охотники из числа ценителей энигматических практик, дающих неопределенные результаты, и тут им будет чем поживиться — Огюст Буше-Леклерк (1842–1923) старался не упускать ни малейшей подробности, повествуя о гаданиях по внутренностям, неодушевленным предметам, жребиям, светилам и т. д. и т. п. Особенно рекомендуем эту книгу тем, кто давно мечтал разобраться в различиях онейроскопии и онейрокритики, пальмического и математического ведовства, а также освоить астрологическую морфоскопию.
«Греки, всячески стараясь рассеять тот хаос, в который так охотно погружались египтяне и халдеи, предпочитали употреблять правильные деления. Они придерживались деканов зодиака, которые становились под-жилищами планет. Впрочем, планеты размещались там в каком-то непонятном порядке: они поднимались от Марса, спускались до Луны по Солнцу, Венере и Меркурию, затем поднимались на самую высокую точку неба до Сатурна и соединялись с Марсом посредством Юпитера. Итак, в первом декане Барана шествие открывается Марсом; а так как 36 не есть составное число из 7, то Марс и закрывает тридцать шестой декан, третий в Рыбах».
Мортимер Адлер. Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений. М.: МИФ, 2024. Перевод с английского Ларисы Плостак. Содержание
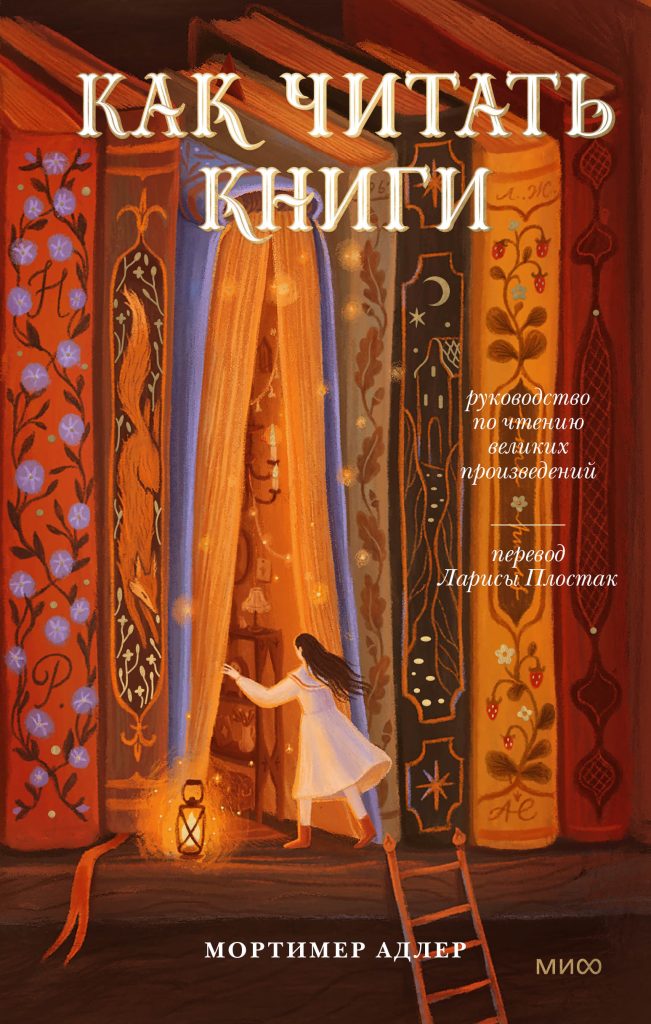 Десятое по счету русскоязычное издание книги, первая редакция которой увидела свет в 1940 году. Хотя труду Мортимера Адлера (1902–2001) в не столь отдаленном будущем исполнится сто лет, он, как говорится, не теряет актуальности и будет оставаться актуальным до тех пор, пока существуют наивно-«романтические» представления о книге как некой абсолютной святыне, не имеющей прикладного назначения.
Десятое по счету русскоязычное издание книги, первая редакция которой увидела свет в 1940 году. Хотя труду Мортимера Адлера (1902–2001) в не столь отдаленном будущем исполнится сто лет, он, как говорится, не теряет актуальности и будет оставаться актуальным до тех пор, пока существуют наивно-«романтические» представления о книге как некой абсолютной святыне, не имеющей прикладного назначения.
Меж тем всякая настоящая книга пишется с конкретной целью, в ней всегда есть, во-первых, то, что хочет сообщить автор; во-вторых, то, как он это сообщает. Содержание книги (и это важно) можно пересказать, а ее стиль — описать. Тот, кто утверждает обратное, вероятно, просто хочет продать вам стопку бумаги, заполненной типографской краской.
При этом Адлер ни в коем случае не настаивает на том, что книги (если они, конечно, книги) не бывают «хорошими» или «плохими», «высокими» и «низкими». Если уж их как-то классифицировать, то скорее на созданные для познания и созданные для развлечения. Собственно, это первый вопрос, который следует, если верить Адлеру, задавать себе: чего вы хотите от чтения?
Только после этого нужно в постоянном диалоге с автором продолжать спрашивать: что мне сообщает этот аргумент или эта сцена? как я могу возразить? почему мои возражения опровергнуты или, напротив, не поддаются опровержению? какие дополнительные материалы следует изучить, чтобы глубже понять авторскую мысль? И так далее и тому подобное.
Пафос бестселлера Мортимера Адлера заключается в том, что чтение — процесс сложный, но при этом доступный каждому, кто поймет разницу между, собственно, чтением и движением глаз слева направо, справа налево или сверху вниз в зависимости от выбранного языка.
В помощь начинающему читателю (независимо от возраста) Адлер предлагает большое количество теоретической и практической литературы. Закрывает труд список величайших, по оценке автора, книг в истории западной цивилизации — как художественных, так и научных.
«У меня есть основания полагать, что люди, которые по-настоящему читали великие книги, смогут разумно и взвешенно рассуждать о наших насущных проблемах. Человек, который здраво размышляет о практических сторонах жизни, прекрасно знает, что для реализации задуманного нужны верные действия. Будем ли мы выполнять свой долг и действовать — это, конечно, находится вне компетенции гуманитарных наук. И все же именно эти науки готовят нас к свободе. Они раскрепощают наш разум и позволяют создавать сообщества друзей, разделяющих одни и те же убеждения. Мы обязаны жить и действовать как свободные люди, и только нам решать, выберем мы этот путь или захотим уйти от ответственности».
Владимир Кричевский. Четвертая страница обложки. М.: Шрифт, Смена, ABCdesign, 2024. Содержание
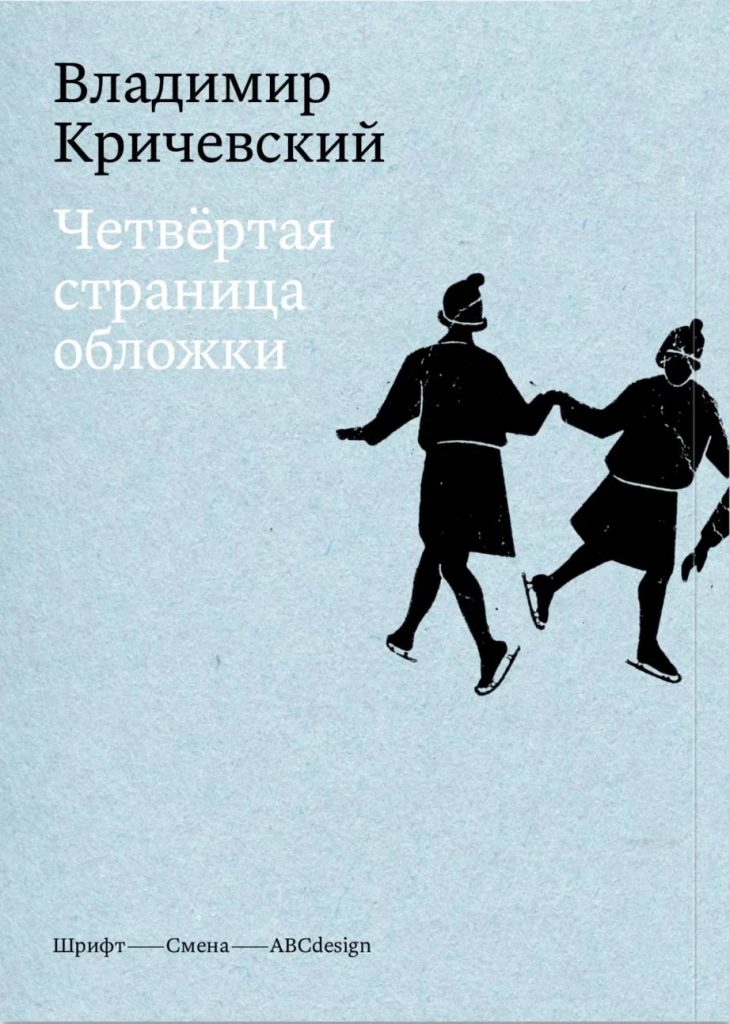 «Четвертая страница обложки», она же «спинка», — маргинал в мире книжного дизайна. В большинстве случаев ее отводят под ценник, штрих-код, не особо познавательную информацию об авторе, издательское клеймо и так далее.
«Четвертая страница обложки», она же «спинка», — маргинал в мире книжного дизайна. В большинстве случаев ее отводят под ценник, штрих-код, не особо познавательную информацию об авторе, издательское клеймо и так далее.
Огромное пространство (если быть точным, ровно половина обложки) остается неиспользованным, и только самые вдохновенные оформители понимают возможности, которые дает «спинка». Это место, где можно продемонстрировать читателю свои мастерство и эстетическое чутье, интеллектуально обыграть и дополнить содержание книги, а в самых интересных случаях «четвертая страница обложки» может выступить площадкой для высказывания, недопустимого на лицевой стороне.
На примере книг из своей домашней библиотеки художественный критик и практик Владимир Кричевский объясняет, какие возможности упускают его коллеги, игнорирующие «обратную сторону книги». Кричевский обращается к разным жанрам и эпохам — от русского авангарда до европейского и американского постмодернизма.
Что касается особых отношений между читателем и книгой, то «Четвертая страница обложки» в чем-то познавательнее (веселее, уж точно) того же Адлера.
«Многие оформители, если не большинство, склонны блюсти девственную чистоту тыльной сторонки, не считая ее выгодным местом для картинок и тем более — для слов. В своей наружности традиционная книга, грубо говоря, асимметрична, несмотря на назойливую зеркальную симметрию внутренних разворотов».