Погибшая сила Аполлона Григорьева
Константин Львов — о стихах выдающегося критика
Аполлон Григорьев. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. Переводы поэзии / ИРЛИ РАН; изд. подгот. Б. Ф. Егоров и А. П. Дмитриев. СПб.: ООО «Полиграф», 2021
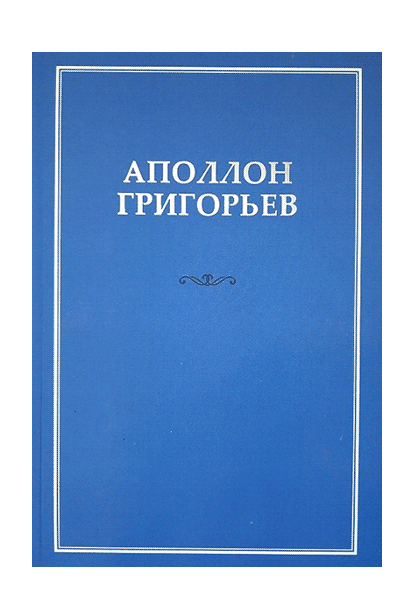 «Существо прошедшего века, историческая достопамятность, непризнанный поэт! Он вечный страдалец в нашем меркантильном обществе <...> Да, он весь состоит из пламени и мрака: буря и пожар! Это волкан, жерло которого в отверзии завалено громадой облаков: пламени некуда деться, и оно пробивается в щель. Вот почему у всякого непризнанного поэта — на лбу вечные тучи, вечная буря, а на носу вечный пожар!..»
«Существо прошедшего века, историческая достопамятность, непризнанный поэт! Он вечный страдалец в нашем меркантильном обществе <...> Да, он весь состоит из пламени и мрака: буря и пожар! Это волкан, жерло которого в отверзии завалено громадой облаков: пламени некуда деться, и оно пробивается в щель. Вот почему у всякого непризнанного поэта — на лбу вечные тучи, вечная буря, а на носу вечный пожар!..»
Приведенные строки взяты из посмертного очерка А. Кульчицкого в альманахе Н. Некрасова «Первое апреля», изданному — по совпадению — почти в одно время со сборником стихотворений Аполлона Григорьева, героя данной заметки. Разумеется, было бы определенным преувеличением называть его неизвестным или совсем не признанным. Помимо упомянутого сборника 1846 года (тираж — 50 экз.), куда вошли 62 оригинальных и переводных (масонские гимны, Гете, Гейне, Байрон, Мицкевич) стихотворения, при жизни Григорьев выпустил еще 7 поэм и 4 значительных цикла стихов; неподцензурные, критические тексты печатали эмигранты. Но уже в глазах современников Григорьев-критик и Григорьев-человек затмевали поэта. Белинский, рецензируя книгу 1846 года, отметил лишь немногочисленные стихи с нотой гражданственности. Вал. Майков хорошо отозвался о стихотворении «Нет, не тебе идти со мной...», но в отзыве на сборник А. Плещеева. Плетнев писал Я. Гроту: «У Григорьева есть и такие стихи, кои читать страшно по атеизму» (11 мая 1846). Возможно, он читал в списках:
Но на кресте распятый Бог
Был сын толпы и демагог.
Знавший Григорьева еще по годам студенчества Я. Полонский писал их общему другу А. Островскому: «Не попробуете ли вы когда-нибудь воссоздать этот образ в одном из ваших будущих произведений? Григорьев как личность, право, достоин кисти великого художника. К тому же это был чисто русский по своей природе — какой-то стихийный мыслитель, невозможный ни в одном западном государстве» (3 апреля 1870). Островский в своих драмах Григорьева на сцену не выводил, зато определенные черты характера и биографии его описали Тургенев — в образе Лаврецкого, Достоевский — Мити Карамазова, Толстой — Федора Протасова.
Интерес к Григорьеву-поэту пробудил спустя полвека после его смерти другой поэт — Александр Блок. В 1916 году под его редакцией вышло собрание Григорьева из 150 стихотворений и поэм, снабженных комментариями и биографическим очерком. В нем Блок сравнивал Григорьева с шекспировским героем: «Не быть принцем московскому мещанину; но были все-таки в Григорьеве гамлетовские черты: он ничего не предал, ничему не изменил; он никого и ничего не увлек за собою, погибая; он отправил только собственную жизнь <...> Он был лишен власти». В советские и современные годы литературное наследие Григорьева публиковали и комментировали Н. Степанов, Б. Костелянец, Б. Егоров, А. Осповат, Р. Виттакер. Настоящее издание — первое научное собрание сочинений Григорьева; главным его редактором был Борис Егоров, к сожалению, первый том вышел почти сразу после его кончины. Исследователи отмечали в поэзии Аполлона Григорьева исповедальность, непричесанность, субъективизм, стремление к ритмической дисгармонии, использование дольников (продолжил его позже как раз Блок). В 1862–1864 гг. Григорьев начал печатать свои воспоминания, названные им «Мои литературные и нравственные скитальчества», и филологи выделяют эту черту григорьевской музы. Не насмешливые современники, а читатели и литературоведы смогли по достоинству оценить концепцию органической критики Григорьева, хотевшего указать на тождество законов органического творчества в параллельных явлениях мира психического (духовного) и соматического (материального). Современники больше потешались над григорьевскими терминами: цвет и запах эпохи, цветная истина, растительная поэзия. Григорьев же таким способом не только старался точнее описать литературу, но и возвысить мир флоры и фауны до человеческого бытия:
Но вот на лестнице творенья
Одушевленных тварей круг,
И им даны для наслажденья
И зоркий глаз, и чуткий слух.
Дано им искать себе радость и пищу,
Им плавать дано, и лежать, и ходить,
И двигаться вольно, и в мире жилище
Свободным избраньем себе находить.
Животную жизнь от мучений щадите,
От смерти ее, где возможно, храните.
И животных жизнь хороша!
(XIV гимн масонов)
Усилиями исследователей за Григорьевым закрепился титул последнего романтика. Имеет смысл кратко отметить вехи его биографии. Аполлон Григорьев родился 16 июля 1822 года в Москве, а скоропостижно скончался 25 сентября 1864-го в Петербурге. К обеим столицам отношение поэта было скептическим:
Опять Москва <...> однообразная, пустая,
Но даже в пустоте самой
Хандры глубоко безотрадной
В себе таящая залог, —
Хандры, которой русский Бог
Души, до жизни слишком жадной,
Порывы дерзкие сковал...
(«Встреча. Рассказ в стихах»)
...Я чужд тебе, великолепный град <...>
Тебе уже ничем не удивить меня —
Ни гордостью дешевого безверья,
Ни коловратностью бессмысленного дня,
Ни бесполезной маской лицемерья.
(«Город»)
Дед Григорьева был крестьянином, сделавшим карьеру и получившим дворянское звание. Отец поэта служил, но влюбился в дочь кучера. Аполлон родился еще вне неравного брака, но без родительского внимания, конечно, не остался. Учился он, и весьма успешно, в Воспитательном доме, а потом на юридическом факультете Московского университета (1838–1842), где после недолго работал библиотекарем и секретарем Совета. В университете он подружился с поэтами А. Фетом и Я. Полонским, драматургом А. Островским, историком С. Соловьевым, художником П. Боклевским.
Григорьев служил преподавателем в столичном Воспитательном доме и Оренбургском кадетском корпусе, учителем юного князя И. Трубецкого (в Италии в 1857—1858 гг.). Григорьев сотрудничал в редакциях «Москвитянина» М. Погодина (1850–1857), «Времени» и «Эпохи» братьев Достоевских (1861–1864). Он много занимался художественными переводами, в том числе трех пьес Шекспира и «Ученических лет Вильгельма Мейстера», а также либретто 27 опер.
В личной жизни Григорьева преследовали трудности и несчастья. Кажется, ни одна из его возлюбленных не разделяла его чувств вполне. Это относится и к таинственной Е.С.Р. (их общей с Фетом знакомой), и к вышедшим из столичных интеллигентских семей Антонине Корш и Леониде Визард. Последней посвящен цикл сонетов «Титании» (1857), написанный одновременно с переводом комедии Шекспира:
Титания! Прости навеки. Верю,
Упорно верить я хочу, что ты —
Слиянье прихоти и чистоты,
И знаю: невозвратную потерю
Несет он в сердце; унеслись мечты,
Последние мечты — и рая двери
Навек скитальцу-другу заперты.
Его скорбей я даже не измерю
Всей бездны. Но горячею мольбой
Молился он, чтоб светлый образ твой
Сиял звездой ничем не помраченной,
Чтоб помысл и о нем в тиши бессонной
Святыни сердца возмутить не мог,
Которое другому отдал Бог.
Не ответила Григорьеву взаимностью и итальянская его знакомая Ольга Мельникова (позже жена Дмитрия Тютчева, сына поэта) — знаменитая последняя зорька. Долгое время Григорьев жил с Марией Дубровской, несчастной женщиной, которую он нашел в притоне:
 Антонина Корш. Фото 1850-х годов
Антонина Корш. Фото 1850-х годов
Ты поздно встретилась со мной.
Хоть ты была чиста душой,
Но ум твой полон был разврата.
Тебе хотелось бы блистать,
Да «по-французскому» болтать –
А я мечтал тебя спасать.
Большинство этих романов развивались одновременно с семейной жизнью Григорьева. Когда Антонина Корш предпочла ему в будущем известного юриста и историка К. Кавелина, Григорьев скоропалительно посватался к ее сестре Лидии. Брак получился крайне неудачным: трое детей росли в семье, где отец и мать словно соревновались друг с другом в пьянстве и адюльтерах. Во «Вверх по Волге» Григорьев выразительно запечатлел себя с женой:
Хотя по-своему любила
Она меня, и верю я...
Ведь любит борова свинья,
Ведь жизнь во все любовь вложила.
Финансовое положение Григорьева было, при таком образе жизни, крайне неустойчивым; он не раз попадал в долговую тюрьму и умер от апоплексии вскоре после очередного освобождения.
Переходя к поэтической (творческой) биографии Григорьева, следует отметить ее прерывистость и периодичность. Также нельзя не согласиться с редакторами, которые рассматривают оригинальные сочинения Григорьева и его поэтические переводы как единый корпус текстов. Первый поэтический подъем Григорьева датируется 1843–1847 годами; он выпускает стихотворный сборник 1846 года и поэмы «Олимпий Радин» (в ее основе — отношения с семьей Коршей), «Видение», «Предсмертная исповедь», «Встреча. Рассказ в стихах», «Отпетая. Первая глава». После этого наступает молчание на несколько лет. Григорьев возвращается к поэзии примерно в 1852 году: второй этап творчества продолжается до 1858 года, до возвращения из Италии и Франции. В это время поэт создает важные стихотворные циклы «Борьба» и «Титания» (оба — 1857; любовь к Л. Визард), «Импровизации странствующего романтика» (публ.1860; посвящен О. Мельниковой), поэму Venezia la bella (1858), переводит драматическую поэму А. Мюссе «Уста и чаша» (1852) и поэму Д. Байрона «Паризина» (1859). И вновь поэт Григорьев умолкает, а литератор Григорьев занимается критикой. Последний поэтический расцвет Аполлона Александровича приходится на 1862 год, когда он пишет исповедальную поэму «Вверх по Волге» о своих любовных драмах с женой и Дубровской, о своем запойном пьянстве. Помимо нее, Григорьев вдохновенно переводит первую песнь «Чайльд Гарольда».
Упоминая поэтические переводы, я бы хотел отметить, что выбор авторов был значимым для Григорьева. Каждый из них играл немаловажную партию в его поэтическом романтическом оркестре:
«В Мюссе есть то, чего не доставало Гете, чтобы быть истинным драматургом, — сочувствие к политической сфере и глубокое понимание ее пружин» (из цикла статей о Мюссе и переводов из него; 1852; Григорьев считал героя «Исповеди сына века» сотоварищем николаевского «потерянного поколения»).
«Байрон есть пламенный поэтический протест личности против всего условного в окружавшем его общежитии и потому может быть судим только с высшей точки зрения христианского суда, но не с точки зрения нравственности того общежития, которого муза его была казнию; он ничего иного не сделал, как обнажил только то, что прикрывалось ветхим покровом условного, сорвал маску с обоготворенного втихомолку эгоизма и как истинный глубокий поэт воспел торжество этого страшного начала с тоской и ядовитой иронией» («О правде и искренности в искусстве», 1856).
Теперь можно от ориентиров перейти к самому поэтическому миру Григорьева. Правда, сперва охарактеризовав окружавшую его российскую жизнь. Лучше всего дать слово самому поэту: «Разрушенное прошедшее позади, впереди заря безграничного небосклона, первые лучи будущего, и между этих двух миров <...> что-то неопределенное и зыбкое, море тинистое и грозящее кораблекрушением» («Воспоминания», 1862).
Маяком в этом опасном море была мировая гармония:
Что жить должно — на жизнь дает ответ;
В чем меры нет — как море опадает;
Душевный мир замкнут и завершен:
Не темная им больше правит сила,
А стройно, мерно двигается он
Вокруг животворящего светила.
Из бездны темной вырвавшись, оно
Все держит властно, все живет равно.
Лоцманом служила фантазия художника, заверенная его умом и чувством:
О, не зови мечтание безумным
Того, что сердцу опытом далось!
Едва ль не все, что названо разумным,
Родилося сначала в царстве грез.
(«Venezia la bella. Дневник странствующего романтика», 1858)
 Кораблем был сам лирический герой, и то было, увы, вовсе не непотопляемое судно. Свойствами характера и судьбы этого alter ego Аполлона Григорьева были:
Кораблем был сам лирический герой, и то было, увы, вовсе не непотопляемое судно. Свойствами характера и судьбы этого alter ego Аполлона Григорьева были:
— легкомысленность (он был герой, и даже очень пылкой, / в танцклассе и с друзьями за бутылкой; «Первая глава из романа «Отпетая»);
— дуализм (какая-то неправильная жила / и в страстно-лихорадочном огне / меня всегда держала и томила, / что в меру я — уж так судил мне Бог — / ни радоваться, ни страдать не мог! — Venezia la bella);
— чувственность (мой хранитель таинственный, странный, больной, / мое сердце, мой северный гений; «Песня сердцу», 1858);
— фатализм (и, зная твердо наперед, / что там иль сям, наверно, ждет / потеря новая, на зов / идти смиренно был готов; «Предсмертная исповедь», 1846).
Наиболее примечательными двойниками лирического героя Григорьева были персонаж его поэмы «Встреча» (1846) Сергей Петрович Моровой (наслаждений вечно жадный, / кругом в долгах, еще живет, / как прежде, весело, покойно, / и думая, что недостойно / с умом и волею людей / перед судьбой упасть своей) и — разумеется — Чайльд-Гарольд:
…Должен откровенно
Увы! сказать я: по уши в грехах
Погряз он, негодяй был совершенно;
И в сей юдоли лишь одно любил:
Наложниц, оргий шум — да всех сортов кутил.
(перевод Аполлона Григорьева, 1862)
Успокоение такой мятежной душе могло принести только посмертное забытье:
И над его могилою цветут,
Как над иной, дары благой природы;
И соловьи там весело поют
В час вечера, когда стемнеют воды
И яворы старинные заснут,
Качаяся под лунными лучами
В забвении зелеными главами.
(«Памяти одного из многих», 1844)
Григорьевский герой со временем нашел для определения окружающего мира выразительную аллегорию — утратившую уже свободу Венецию:
Та жизнь, под страхом пытки и кинжала
Летевшая каким-то пестрым сном,
Та лихорадка жизни с шумно-праздной
И пестрой лицевою стороной,
Та греза сладострастья и соблазна,
С подземной работою глухой
Каких-то сил, в каком-то темном мире
То карнавал, то Ponte dei sospiri.
Целью мореплавателя-романтика была Женщина, утраченная платонова половина, для которой Григорьев нашел многообразные эпитеты. Она была зеркалом и тенью, Жуаной — женской ипостасью знаменитого озорника: Ты мною создана, / и ты со мной осуждена. Или вот фраза из рассказа «Офелия»: Женщина — те же мы сами, наше я, но отделившееся для того, чтобы наше я могло любить себя, могло смотреть в себя, могло видеть себя и страдать до часа слияния бытия и тени. Она была куклой и пантерой. Женщина не переставала быть девочкой — шипом расцвесть готовящейся розы. Она была ядом, разлившимся по всему его существу, змеей, которая вплетается в венец его славы <...> но есть какая-то обаятельная прелесть, какое-то трагическое величие в этом страшном образе («Уста и чаша» Мюссе, комментарии к переводу, 1852). Физическая страсть обеими сторонами признавалась безобразной и ничтожной, отношения должно были быть иными: Мне стыдно женщину любить / И не назвать ее сестрою. — ...Я одна / Твоей сестрой, подругой создана.
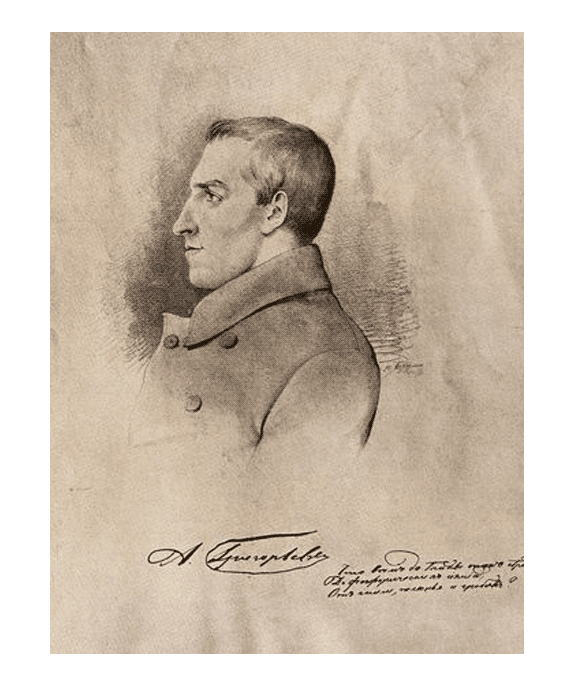
Вкусы и пристрастия героя отличались радикальностью. Он склонялся к богоборчеству (и Ты глядишь, как гибнут миллионы, / с иронией божественной Любви), искусству для избранных (мне слишком гадко, / что эта страсти простота, / что эта сердца лихорадка / и псами храма понята), не верил в институт семьи (семья для нас всегда была / лихая мачеха, не мать), всегда готов был прихлопнуть оппонентов гневной тирадой (пришел поэт, что приапиной / и желчью зависти томим, / другой — до старости мышиный жеребчик, вербный херувим. / На романтизм сердитый больно, / за пьесы щипанный довольно); герой жаждал возобновления демократических свобод:
Да, умер он, давно замолк язык народа,
Склонившего главу под тяжкий царский кнут;
Но встанет грозный день, но воззовет свобода
И камни вопли издадут,
И расточенный прах и кости исполина
Совокупит опять дух Божий воедино.
(Стихотворение 1846 года о новгородском вечером колоколе)
По сути, григорьевскому герою уже была предначертана жизненная стратегия — странствие. Кажется, на исходе второго периода своего поэтического творчества Григорьев взялся за ее разработку. Посылая свою венецианскую поэму А. Майкову, поэт писал: «Вот Вам цельный отрывок из большого романа (не пугайтесь — он пишется прозой, и стихи в нем только оазисы), который, Бог знает, когда еще кончу». Публикация в 1862 году поэмы «Вверх по Волге» сопровождалась примечанием: «Одна из частей этой — едва ли, впрочем, имеющей быть конченной „Одиссеи“ напечатана в „Сыне Отечества“ 1857 г. („Борьба“); другая — рассказ в прозе „Великий трагик“ в „Русском Слове“ 1859 г., 1; третья — поэма „Venezia la bella“ в „Современнике“ 1858 г., 12». Сверх этих слов о замысле «Одиссеи последнего романтика» историки литературы не знают, но можно предположить, что важную роль должна была играть цыганская тема. Она увлекала Григорьева и в творчестве, и в жизни. В рассказе «Кактус» Фет вспоминал своего друга:
«Репертуар его был разнообразен, но любимою его была венгерка, перемежавшаяся припевом:
Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!
Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви, красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья».
Самые популярные стихи Григорьева посвящены именно этому народу-путешественнику: «Цыганская венгерка» («Борьба», XIV; оркестрована С. Рахманиновым), «Любовь цыганки», «Песня цыганки». В рассказе «Великий трагик» Григорьев писал, что четверть века провел с цыганскими хорами, нарочно выучился говорить на их языке. Умолкший по смерти Григорьева цыганский напев подхватил спустя полвека его редактор и биограф Александр Блок, а после его кончины, уже в эмиграции, поэт Борис Божнев. Черновики поэмы «Столик Блока» (1946) содержат тематические строфы:
С лицом, как бархат старых мастеров,
Их темной кистью выбритый до синьки,
Цыган играл, потерян в лабиринте
Долина желтых шелковых шнуров <...>
Он, маленькую скрипку прищемив
Щекою смятой с матовою пудрой,
Рукой, как жук истомный, мелкокудрый,
По струнам полз, их странно зацепив.
Смерть застала Григорьева в расцвете его многообразных литературных трудов, но она не была трагической случайностью. Напротив, раннее пресыщение, безысходный скептицизм, неудовлетворенная жажда сердца — словом, все то, о чем он писал в примечаниях к сочинениям Альфреда Мюссе, — надломили характер самого Григорьева, и он быстро и неумолимо сжег свечу своей жизни с обеих сторон. Замыслы последнего романтика остались неоконченными, даже те, о которых он воодушевленно и фаталистически писал (письмо Н. Страхову, 12 декабря 1861):
«А поэзия — уходит из мира. Вот я теперь с любовью перевожу одного из трех последних настоящих поэтов — я переживаю былую эпоху молодости — и понимаю, с какой холодностью отнесется современное молодое поколение к этим пламенным строфам (все равно, хоть читай оно их по-английски), к этой лихорадочной тревоге, ко всему тому, чем мы жили».