Поэзия — это как если бы Тарковский снимал ситком
Три поэтические книги марта
Алексей Сальников. Кот, лошадь, трамвай, медведь. М.: LiveBook, 2019
 Известность Сальникова-прозаика многократно превзошла известность Сальникова-поэта. В рецензиях на «Петровых в гриппе» о его поэзии говорилось как о бэкграунде, а нечитаными стихами объясняли достоинства прозы. Роман «Опосредованно», посвященный собственно поэзии и содержащий собственно стихи, мог бы немного исправить ситуацию. И тут за дело взялось издательство LiveBook, выпустившее избранные стихотворения Сальникова приличным тиражом — 1 500 экземпляров.
Известность Сальникова-прозаика многократно превзошла известность Сальникова-поэта. В рецензиях на «Петровых в гриппе» о его поэзии говорилось как о бэкграунде, а нечитаными стихами объясняли достоинства прозы. Роман «Опосредованно», посвященный собственно поэзии и содержащий собственно стихи, мог бы немного исправить ситуацию. И тут за дело взялось издательство LiveBook, выпустившее избранные стихотворения Сальникова приличным тиражом — 1 500 экземпляров.
К составлению сборника отнеслись придирчиво: в этой тонкой книжке добрая треть страниц пустая (иногда пустые страницы заняты рисунками Юлии Маноцковой). Поэтическую работу за 15 лет представляет 51 стихотворение — может, тут есть какой-то цифровой палиндром. Но о том, какой Сальников поэт, эти стихи позволяют составить внятное представление. И давайте скажем сразу: поэт хороший.
Во-первых, потому, что ему отлично удается удерживать читательское внимание. Стихи Сальникова сами задают скорость чтения — и лексическими, и ритмическими средствами. У Сальникова есть время на то, чтобы описывать мелочи. Здесь постоянно медленно идет снег — и заставляет на себя смотреть. Эти стихи не очень сложны, но умеют навязать медленное чтение: «Прохожий в более тяжелых ботинках, чем смог надеть, / Приседает на светофоре, чтоб завязать шнурок, / Медленно озирается, как медведь…» Наблюдательность прозаика плюс воображение поэта хорошо работают в паре. Вооружившись таким сочетанием, можно отважиться на риск — убрать в тексте пробелы или впасть в тавтологию:
Заходящего солнца долгие коридоры
Так удачно лежат на этой кривой земле,
Что все происходящее похоже на строительные леса католического собора
Больше, чем сами строительные леса католического собора
Похожи на строительные леса католического собора.
Этот «такой удачный» синтез прозаического и поэтического позволяет Сальникову играть в стихах с литературщиной — то с классической прозой в диапазоне от Льва Толстого до Веры Пановой, то с детскими страшилками.
И здесь — «во-вторых». Сальниковская игра — зверино серьезна, но в то же время непафосна. Кот, лошадь, трамвай, медведь и другие тотемные животные не дадут соврать; неожиданное, совершенно разнузданное сравнение — «Разум, как ротвейлер — сплошной провал в темноту» — озадачило бы матерого сочинителя барочных кончетти. Во многих текстах Сальников выступает в почтенном и, видимо, жизненно для себя важном жанре «определение поэзии»: «Стихосложение — это как темнотой умывать лицо», «Лирика, мой нечитающий, это / То, что два раздолбая меж пятен фонарного света / Ощущают, но ощущают не сами, / А за них математика чувствует…» — или даже так:
Поэзия, говорят, такой невеселый цирк,
Или как если бы Тарковский снимал ситком,
Допустим, Чендлер вспоминает родителей, и, кувырк,
В эпизод вставляют «Зеркало» целиком.
Цирк невеселый, но это очень смешно. Так же как в другом месте: «…погода ландшафт продолжает упоминать, / Так же упорно и уныло, как Соломон Волков — Баланчина». Где Соломон Волков, там и Бродский. У Сальникова хватает формально «бродских» стихотворений, с длинными строками и анжамбеманами [переносами фраз из строки в строку]. Не станем отрицать зависимость от влиятельной — любимое слово Бродского — просодии. Но пафос, который Бродский часто на себя напускал (прекрасно умея, впрочем, его гасить), Сальникову чужд. Об этом он говорит прямо. Он ловит себя на том, что, «словно какой-нибудь Бродский, свысока обозревает места», и вспоминает строку «Из забывших меня можно составить город»:
Меня удивляет, как Бродского не порвало от собственного пафоса, когда он придумал эти слова. <…>
Господи, да из тех, кого я сам забыл, можно составлять области, автономные округа.
Так что город, по которому идет Сальников, состоит не их забывших и забытых, а из стройматериалов в движении:
И ты такой идешь, идешь, хоп-хоп, и вдруг
Выходишь в такое место среди снегопада,
Где вместо снега обильно валятся буквы…
Вот книга Сальникова и есть такое место. Стихи человека, который нашел свое место среди снегопада и, остановившись ненадолго посреди этого места, всматривается в него и произносит свое негромкое сообщение. Которое, в свою очередь, заставляет остановиться и постоять рядом прохожих, то есть нас.
Ханс Магнус Энценсбергер. Гибель Титаника: Комедия. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. Перевод с немецкого С. Городецкого
 «Гибель Титаника» — главное произведение Ханса Магнуса Энценсбергера, живого классика немецкой поэзии и левого интеллектуала, которому в этом году исполнится 90 лет. О левом интеллектуализме приходится говорить сразу, потому что «Гибель Титаника» — не только поэтический отчет о том, как 14 апреля 1912 года произошло главное кораблекрушение новейшей истории, но и притча о погибающем обществе.
«Гибель Титаника» — главное произведение Ханса Магнуса Энценсбергера, живого классика немецкой поэзии и левого интеллектуала, которому в этом году исполнится 90 лет. О левом интеллектуализме приходится говорить сразу, потому что «Гибель Титаника» — не только поэтический отчет о том, как 14 апреля 1912 года произошло главное кораблекрушение новейшей истории, но и притча о погибающем обществе.
Энценсбергер создавал первую версию поэмы в 1969 году на Кубе, во время жарких политических споров с коллегами и в период недолгого брака с Марией Алигер, дочерью Александра Фадеева и Маргариты Алигер; уезжая с Кубы, он отправил единственный экземпляр рукописи по почте — и она затерялась, разделив, таким образом, судьбу «Титаника». В новый вариант, созданный через восемь лет, эта история вошла на правах одной из сюжетных линий. Вообще о Кубе, которая к началу 1970-х потеряла флер «острова свободы», здесь сказано почти столько же, сколько о «Титанике»:
Тогда в Гаване с домов сыпалась
штукатурка, в порту недвижно стоял
гнилостный запах, пышно отцветала старина,
дефицит день и ночь страстно
глодал десятилетние планы…
Эйфорические разговоры о коммунизме и досужие сетования на кубинский неурожай сахара Энценсбергеру явственно напоминают игру оркестра на обреченной палубе в 1912-м, и неудивительно, что в водах Карибского вода ему мерещится айсберг:
кроме меня, его не видел никто,
в темном заливе, в безоблачной ночи,
в черном море, гладком как зеркало,
я увидел айсберг, немыслимо высокий
и холодный, ледяной фата-морганой
плыл он медленно и необратимо,
белый, на меня.
В этом «кроме меня, его не видел никто» есть известное тщеславие. Оно впору ветхозаветному пророку, но Энценсбергер на такого пророка не похож: эмоциональный фон «Гибели Титаника» — смесь сочувствия и иронии, в том числе по отношению к тем, кто слушает проповедников:
Они терпеливо стояли
со своими мешками и четками,
с рахитичными детьми
у ограждений и сторонились,
слушали его, с уважением,
и ждали, пока не утонули.
Энценсбергер — поэт разнообразных техник. Его поэма — стилистический пастиш: здесь есть каталоги; имитация отчаянной речи («Выпустите нас / Мы здесь задохнемся»); фольклорные песенки, с умением воспроизведенные по-русски Святославом Городецким; целые главы, посвященные шедеврам старых мастеров, которые занимались своим делом, прятали под слоями краски секреты для посвященных и мало заботились о социальном контексте. Наконец, Энценсбергер впускает в поэзию документ — схожим образом, говоря о катастрофе Блокады в поэме «Рождественский пост», поступает русский поэт Сергей Завьялов. И даже документы эти — схожего свойства: у Завьялова сопоставляются предписания для соблюдающих пост с нормами блокадного пайка, у Энценсбергера приводится не слишком уместное на океанском дне меню: «Caviar Beluga / Hors d’œuvres varies / Turtle Soup».
Впрочем, и у тех, кто собирался отведать черепахового супа и белужьей икры, есть свое достоинство: они тонут как джентльмены — и Энценсбергер удостаивает их кивка. Но в целом это, конечно, марксистский, или, если угодно, постмарксистский текст (в том же смысле, в каком мы говорим о постиронии). Гибель Титаника — это «подходящий материал для поэтов», «она — очередное подтверждение справедливости тезисов Владимира Ильича Ленина», и в то же время «она создает рабочие места» и «она постепенно начинает действовать нам на нервы». Разговор о ней ничего на самом деле о ней не сообщает («Потому что умирающий, вместо того / чтобы сказать: «Я умираю», / успевает только прохрипеть / что-то невнятное»), зато статистика погибших пассажиров первого, второго и третьего классов позволяет сделать классовый вывод: «Мы все в одной лодке, / но кто бедней, тот тонет быстрее». Это двойственная позиция, и Энценсбергер это осознает. Он из нее пишет.
И еще несколько слов о жанре «Гибели Титаника». Авторское определение жанра — «комедия»; как сообщает аннотация, Энценсбергер сознательно «саркастически переосмысляет Данте: «Комедия — поэтическое произведение среднего стиля с устрашающим началом и благополучным концом». Не так уж просто понять, в чем заключается благополучие финала — катастрофического видения: «И откуда взялись / эти многие тысячи мокрых чемоданов, неприкаянно / и бесхозно качающихся на воде? Я плыву и реву. / <…> я реву и плыву дальше». В том, что свидетель выжил, способен рассказать о катастрофе и сделать выводы? Или в том, что с «Титаником» пошло на дно все западное общество, по которому это дно давно плакало? «Чем хуже, тем лучше» — по цитате, которую часто и не вполне точно приписывают Ленину?
Наверное, комедийность здесь того же плана, что в «Вишневом саде», — парад несоответствий, лишенных юмора. Среди таких несоответствий реальной трагедии — многочисленные голливудские фильмы о «Титанике», и это еще нужно учитывать, что Энценсбергер написал свою поэму до фильма Кэмерона, окончательно превратившего катастрофу в блокбастер. Ну, а сделать из кораблекрушения комедию в понимании Данте (началось грозной гибелью, а закончилось спасением души) удалось разве что Джерарду Мэнли Хопкинсу — поэту и католическому священнику XIX века, во всех отношениях от Энценсбергера далекому.
Эдуард Лимонов. Поваренная книга насекомых. СПб.: Питер, 2019
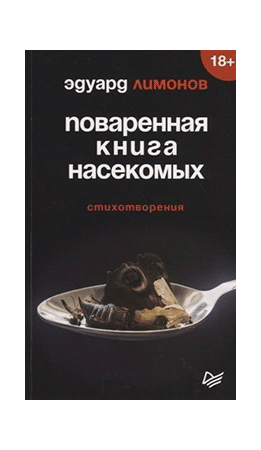 Новая книга стихов Лимонова — из тех, что честно предупреждает о своих недостатках. У нее обескураживающее вступление: «Я пишу всё хуже и хуже, потерял остроумие, держусь даже и непонятно на чём…». Но, конечно, это скорее кокетство, чем сокрушенное признание, потому что начинается авторское предуведомление со слов «Стихотворения — это такие сгустки блевотины из жужжащих в более или менее больной голове связных и бессвязных звуков». ОК, Рембо-Бурлюк-проклятые-поэты, поехали.
Новая книга стихов Лимонова — из тех, что честно предупреждает о своих недостатках. У нее обескураживающее вступление: «Я пишу всё хуже и хуже, потерял остроумие, держусь даже и непонятно на чём…». Но, конечно, это скорее кокетство, чем сокрушенное признание, потому что начинается авторское предуведомление со слов «Стихотворения — это такие сгустки блевотины из жужжащих в более или менее больной голове связных и бессвязных звуков». ОК, Рембо-Бурлюк-проклятые-поэты, поехали.
Здесь действительно много к чему можно придраться. То, что у Пригова сработало бы как прием, у Лимонова кажется неряшливостью («Партизан Денис Давыдов / Молодому человек / Был за храбрость орден выдан / И зачислен был навек / Он в иконостас высокий…»). Но в этой неряшливости — свой шик; вот перед нами стихи, всем своим видом посылающие нас на три буквы — но, собственно, ради этого посыла Лимонова и читают не первое десятилетие. Самолюбование? («Отголосок о нём будет долго тревожить державу. / Ей весьма повезло, что не он той державой рулил» — из стихотворения «Эпитафия», от какового заглавия явно отвалилась приставка «Авто-».) Ну, на том стоим. Знакомый по стихами прошлых лет приапический эротизм превращается в бормотание? («Бог знает, что себе бормочет / Седой и статный хулиган» — что-что, а льстить себе Лимонов не разучился.) Ну, так нас предупреждали, что здесь будет «Му-у» и «Ох-х», да и все, что между ними, иногда выдает прежний постобэриутский блеск:
У тебя отец учёный
Он готовит на Луну
В её климат кипячёный
Экспедицию одну
Ты работаешь в журнале
Ты красива и остра
Родилась ты в Трансваале,
И звезда твоя сестра
У тебя развод, квартиры
И высокие мужчины,
Но черны над нами дыры.
И года, как гильотины
Красной щёткой от причёски
В меня целятся присоски
Менеджер, сойдись со мной!
Подо мною хрипло вой...
Впрочем, совсем не всегда. Известны статьи, разоблачающие лимоновский сексизм (и написанные с жаром, в каком-то смысле конгениальным Лимонову 90-х), но в этой книге некоторые тексты настолько саморазоблачительны, что вызывают единственную эмоцию — снисходительность:
Нет смысла объяснять и вразумлять.
Куда практичней взять тебя за попу
И долго, вдохновенно проникать
Как злой мигрант в блондиночку Европу...
Конечно — мигранты, Европа, серьезные материи. При всех сложностях, которые возникают при попытках вписать Лимонова в историю русской поэзии, отпускать посмертные шпильки в адрес Бродского («Он всегда был мужчиной Бабой-ягой…») ему удается лучше, чем плестись в хвосте куртуазных маньеристов. Вообще, стоит Лимонову сделать шаг в сторону от привычного образа, получается что-то интересное. Например, родная Лимонову стихия войны, которая, казалось бы, сублимация секса (попробуем на секунду отвлечься от этической стороны дела, хотя с учетом лимоновской биографии это крайне трудно), может порождать не пафос и браваду, а меланхолию. С такой меланхолией можно смотреть на кружащие в небе боевые вертолеты или на то, как рота спускается по холму, покрытому виноградниками:
Вдруг выстрел, чёткий, одинокий
И падает убитый хлопец
Махновец или красножопец,
А виноград такой глубокий...
Конечно, эта меланхолия тоже часть образа; в лимоновской логике — посткоитальная грусть. И все-таки она интереснее, чем «Я люблю воюющие страны» (спасибо, мы знаем) и «Времени воевать было больше, чем времени дружить». Из нее есть выход в ужас, в котором рождаются просто отличные стихотворения, не чета опубликованным тут же строкам про то, что «Российские гены вливались тогда / Вовнутрь раскоряченных самок»:
В зале стоят мужчины,
Жуткие как всегда.
Тихо скрипят картины,
Шумно идут года
Вид голубого поля,
Сильный, большой мороз
И по дорожкам в школе
Ходит Иисус Христос
Девочки моют груди
Губкою ледяной,
Скальпель несёт на блюде
Тихий медбрат больной.
Утренние метели,
Хлесткие по углам,
Что же вы нас раздели,
Как же не стыдно вам!