Подрыв всех структур власти
О книге Дэвида Гребера «Пиратское Просвещение, или Настоящая Либерталия»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
David Graeber. Pirate Enlightenment, or the Real Libertalia. NY: Farrar Straus & Giroux, 2023. Contents
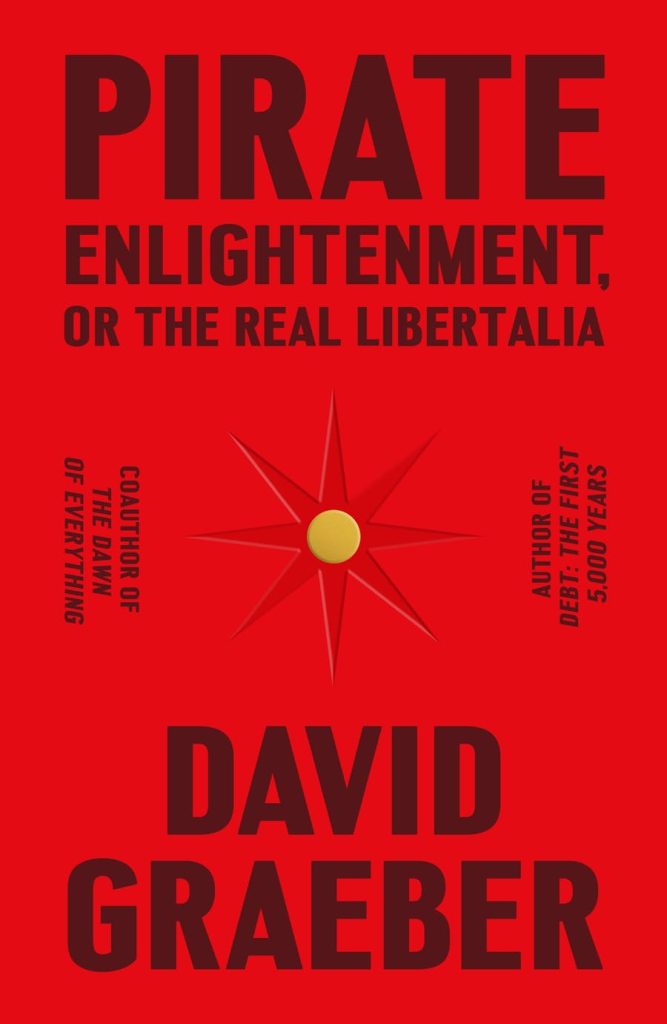 В 1989–1991 годах, когда Дэвид Гребер проводил на Мадагаскаре полевые исследования, работая над своей диссертацией, он заинтересовался историей зана-малата — малагасийцев-потомков пиратов, сохранивших эту идентичность до наших дней. Одним из наиболее известных представителей этой группы был Рацимилахо (1694–1750), сын английского пирата и полулегендарный основатель Конфедерации Бецимисарака, контролировавшей прибрежную полосу длиной 700 км на восточном побережье Мадагаскара между 1710–1850-ми годами. Согласно историческим источникам, Бецимисарака была не похожа на территориальное государство новоевропейского типа: археологические данные, указывающие на существование административной иерархии, отсутствуют; по всей видимости, ключевые решения принимались на демократических ассамблеях (kabary), традиционных для Мадагаскара, значение которых не уменьшилось, а только увеличилось после создания Конфедерации. Малагасийцы, живущие на ее бывшей территории, до сих пор называются бецимисарака, «многочисленные и неразделимые», и известны своим свободолюбием и упрямой склонностью к эгалитаризму. Как пишет Гребер, похоже, что Бецимисарака была «настоящей исторической аномалией» — политическим образованием, представлявшим себя внешнему миру как абсолютная монархия во главе с гениальным сыном пирата и малагасийки, на самом деле будучи децентрализованной конфедерацией, где все решения принимались низовыми демократическими собраниями.
В 1989–1991 годах, когда Дэвид Гребер проводил на Мадагаскаре полевые исследования, работая над своей диссертацией, он заинтересовался историей зана-малата — малагасийцев-потомков пиратов, сохранивших эту идентичность до наших дней. Одним из наиболее известных представителей этой группы был Рацимилахо (1694–1750), сын английского пирата и полулегендарный основатель Конфедерации Бецимисарака, контролировавшей прибрежную полосу длиной 700 км на восточном побережье Мадагаскара между 1710–1850-ми годами. Согласно историческим источникам, Бецимисарака была не похожа на территориальное государство новоевропейского типа: археологические данные, указывающие на существование административной иерархии, отсутствуют; по всей видимости, ключевые решения принимались на демократических ассамблеях (kabary), традиционных для Мадагаскара, значение которых не уменьшилось, а только увеличилось после создания Конфедерации. Малагасийцы, живущие на ее бывшей территории, до сих пор называются бецимисарака, «многочисленные и неразделимые», и известны своим свободолюбием и упрямой склонностью к эгалитаризму. Как пишет Гребер, похоже, что Бецимисарака была «настоящей исторической аномалией» — политическим образованием, представлявшим себя внешнему миру как абсолютная монархия во главе с гениальным сыном пирата и малагасийки, на самом деле будучи децентрализованной конфедерацией, где все решения принимались низовыми демократическими собраниями.
Книга Гребера посвящена объяснению этой аномалии, а также интерпретации политического опыта Конфедерации Бецимисарака в контексте европейского Просвещения — и, наоборот, «деколонизации» Просвещения путем его анализа с позиций малагасийского опыта. Если, как писал Маркс, Лондон был «удобным наблюдательным пунктом» для изучения буржуазного общества в 1850-е, Мадагаскар представляет похожую позицию для исследования Просвещения как интеллектуального и социального движения — при условии, что оно рассматривается в своем истинном, то есть глобальном, масштабе. На рубеже XVII и XVIII веков европейские столицы оказались центрами глобальных империй и перестали быть мировой интеллектуальной периферией, получив доступ к интеллектуальным достижениям других культур, от индивидуалистической философии коренного населения Америк до африканских теорий общественного договора. Однако Европа, все еще находившаяся под властью «старых режимов», была неподходящим регионом, чтобы экспериментировать с этими идеями на практике. Наоборот, как нередко бывает в истории, инновации возникали в пространствах, которые Мишель Фуко называл гетеротопиями: на полях формирующейся капиталистической мир-системы, где сталкивались непохожие друг на друга культуры и модели социальной жизни. Именно таким местом был Мадагаскар, в конце XVII века превратившийся в один из центров пиратства в Индийском океане.
Золотой век пиратства, продолжавшийся с середины XVII до середины XVIII веков, начался с буканьеров, паразитировавших на наиболее развитых «секторах» трансатлантической экономики — вывозе драгоценных металлов из Нового Света в Европу и плантационного рабства на островах Вест-Индии. Однако в конце XVII века у «силового предпринимательства» на море появляется новая арена — Индийский океан, где между Европой и Азией шла активная торговля пряностями, шелками и драгоценными металлами. Как и сегодня, особый интерес для пиратов представляло Красное море, через которое пролегал паломнический маршрут из Индии в Мекку.
Географическое положение Мадагаскара, а также его статус серой зоны, находящейся вне юрисдикций британских колониальных компаний, сделали остров идеальным местом для размещения пиратской базы. В 1690-е годы такая база появилась на острове Сент-Мари, где нашли свой дом от 800 до тысячи пиратов, флибустьеров и беглецов всех мастей, а также их малагасийские жены, союзники, торговые партнеры и прихлебатели. В это же время появляются и начинают циркулировать истории об утопических государствах, основанных пиратами на Мадагаскаре. Их образ обобщен в виде пиратской коммуны Либерталии, воспетой в 1724 году в книге «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами» Чарльза Джонсона (под именем которого мог скрываться Даниэль Дефо).
Хотя Либерталии никогда не существовало как отдельного политического образования, по мнению Гребера, ее прототипами были пиратские поселения на восточном побережье Мадагаскара первой четверти XVIII века, пытавшиеся перенести на сушу формы социальной организации пиратских кораблей. Но как идея утопического проекта по построению радикально нового общества Либерталия нашла свое воплощение в Бецимисараке, которую следует рассматривать как просвещенческий эксперимент по синтезу пиратского самоуправления и эгалитарных элементов политической культуры малагасийцев. Создание Конфедерации Бецимисарака стало итогом глубокой трансформации малагасийского общества, начавшейся с прибытием на Мадагаскар европейских пиратов, и развитием специфической концепции суверенитета, радикально отличной от новоевропейской. То, что европейские наблюдатели интерпретировали как форму абсолютизма, на деле представляло собой «потемкинский двор», имитировавший абсолютную власть путем демонстрации ее внешних атрибутов — роскоши, оружия, вассалов и слуг, а субъект этой власти был не абсолютным монархом, а лишь военным вождем, временно получившим чрезвычайные полномочия из рук народных ассамблей. Обнаружить эту двойственность Греберу позволяет симметричный взгляд на историю Бецимисараки, в равной мере внимательный и к европейцам, и к их малагасийским партнерам. И малагасийские вожди, и пираты-поселенцы, то и дело объявлявшие себя королями Мадагаскара, были талантливыми перформерами, способными изобразить монархическую власть, но не создать социально-экономические условия для ее воспроизводства. Предлагаемый в книге историко-антропологический анализ является попыткой реконструкции событий, сделавших такую форму социального воображения возможной и убедительной.
Политические перформансы, которые особенно хорошо удавались пиратам, становились материалом для слухов и легенд, но также и литературных произведений и политико-философских трактатов: трансатлантическая res publica literaria подпитывалась пиратскими байками с берегов Мадагаскара. Одним из персонажей легенд о королях-пиратах был англичанин Генри Эйвери, ограбивший могольский корабль, следовавший в Мекку по Красному морю, и ставший первым в истории международным преступником, за голову которого была объявлена награда — падишах Аурангзеб пригрозил изгнать представителей Ост-Индской компании с территории империи, если британские власти не возместят ущерб, нанесенный пиратом. По легенде, Эйвери сумел избежать поимки, женился на принцессе и основал на Мадагаскаре собственное королевство, где вся собственность была общей. В 1707 году Даниэль Дефо посвятил королевству Эйвери статью в своем журнале Review, аргументируя в пользу его официального признания Британской империей — в конце концов, многие государства древности точно так же были основаны разбойниками. Вскоре выяснилось, что королевство Эйвери было лишь мистификацией, что, однако, не помешало его самоназванным послам безуспешно добиваться приема британского, французского и голландского королевских дворов, чтобы затем удостоиться аудиенции в Швеции, Османской Империи и России — Гребер упоминает, что Петр Первый всерьез рассматривал перспективу союза с пиратами с целью основания колонии на Мадагаскаре.
Отсылка к Дефо не случайна — за 10 лет до статьи о пиратском королевстве на Мадагаскаре он опубликовал памфлет An Essay Upon Projects, где описал свое время как «эпоху проектов», дерзких предприятий, направленных на создание одновременно общественного и частного блага, где страсти и интересы присутствуют в равной пропорции, от колониальных авантюр до финансовых пирамид. Подобно королям-пиратам, чья власть держалась на принципе fake it until you make it и в которых можно увидеть элементарную форму политического лидерства, в морально амбивалентной фигуре прожектера угадывается современный тип харизматического предпринимателя. Карьера обоих держится на убедительности «отыгрыша», ведь если перформатив окажется неуспешным, на месте амбициозного визионера и строителя империи окажется потенциальный висельник или банкрот. Как написал Гребер в одной из своих статей, разница между прогнозами экономиста и предсказаниями шамана заключается в том, что шаман полагается исключительно на перформанс, тогда как рынки, которые анализирует экономист, основаны на правах собственности, гарантированных силовым аппаратом государств, что придает их работе известную регулярность. Успешное исполнение роли короля не лишает зрителей понимания, что перед ними не король, а актер в роли короля; чтобы заставить их подыгрывать в течение длительного времени, требуется нечто большее, чем перформанс. Однако на Мадагаскаре рубежа XVII и XVIII веков необходимых для этого ресурсов не было ни у пиратов, ни у малагасийских вождей, а у слушателей и читателей историй о пиратских королевствах не было способа отличить факты от вымысла.
Сказанное верно даже в отношении исторических источников, используемых Гребером в книге. Примером может послужить каноническая биография Рацимилахо, написанная на Маврикии французским авантюристом и работорговцем Николя Майором (Nicholas Mayeur). Майор вырос на Мадагаскаре, свободно владел малагасийским языком и работал на графа Морица Бенёвского, венгерско-словацкого мошенника, авантюриста и прожектера, выдававшего себя за польского аристократа, сбежавшего из сибирской ссылки. Бенёвский сумел убедить Людовика XV поддержать его проект по колонизации Мадагаскара и даже основал на острове поселение Луибур, откуда посылал ко двору французского императора отчеты о захвате территорий — например, в 1774 году, через год после высадки своей экспедиции, он писал, что контролирует королевство из 32 провинций силами 160 солдат. Визит инспекторов из метрополии двумя годами позже не обнаружил столь значительных успехов; Бенёвский покинул Мадагаскар, а поселение пришло в упадок из-за тропических болезней, которыми страдали колонисты, — что не помешало Бенёвскому предлагать услуги своего воображаемого королевства американским революционерам в 1779 году. Колониальная экспедиция на Мадагаскар была типичным прожектом, о котором трудно сказать заранее, является ли он мошеннической схемой или амбициозным предприятием, имеющим шансы на крупный успех. Находясь на Мадагаскаре, Бенёвский использовал поставки из Франции для подкупа местных жителей, чтобы они ему подыграли, а также для оплаты услуг Майора, работавшего в качестве репортера и этнографа, благодаря чему появилось жизнеописание Рацимилахо.
Превращение Мадагаскара в центр такого рода политических перформансов началось с прибытия туда пиратов, корабли которых Гребер называет «лабораториями демократии». Их команды состояли из представителей разных культур с разным социальным опытом, не понаслышке знакомых с разнообразием форм коллективной жизни — на одной палубе могли встречаться англичане, шведы, беглые африканские рабы, карибские креолы, американские индейцы и арабы, вынужденные изобретать новые форматы взаимодействия в условиях постоянного риска. (Аргументация Гребера здесь удивительно близка к рассуждениям М. К. Петрова о пиратском ремесле как «школе творчества» на примере эгейских пиратов гомеровских времен, чьи набеги на прибрежные земледельческие поселения привели к универсализации навыков, образующих гражданскую доблесть, и появлению «человека-государства», способного к самоуправлению, в дальнейшем превратившегося в гражданина греческого полиса.) Пиратские коллективы были привержены «грубому» эгалитаризму и имели революционный генезис, рождаясь в результате мятежей против жесточайшей дисциплины и произвольного насилия по отношению к матросам, сопровождавшим европейские колониальные экспедиции. В командах отсутствовала иерархия, за исключением должностей интенданта и капитана, которого выбирали на общем собрании и который исполнял роль лидера, наделенного чрезвычайными полномочиями на время боя или погони за добычей — подобно малагасийским военным вождям, которым предоставляли власть ассамблеи для организации обороны от агрессии со стороны конкурирующих племенных союзов или европейских колонизаторов. Капитаны пиратских кораблей намеренно культивировали устрашающий образ жестоких головорезов и во многом соответствовали ему, хотя едва ли они слишком выделялись на общем фоне европейской колониальной экспансии «долгого XVI века». Беспрецедентной чертой пиратов была не жестокость, а созданная ими специфическая культура, основанная на демократических институтах и эгалитарной морали, приверженность которым только усиливалась невозможностью пути «назад», ни физически, ни в смысле встраивания в социальные иерархии Старого Света и его «официальных» колоний — там бунтовщиков ждала только виселица. «Веселый Роджер», сквернословие и богохульство, а также нарочитое принятие пиратами собственной демонизации стали символами презрения к смерти и одновременно воплощением простонародного, радикально антибуржуазного идеала свободы.
Пираты не были первыми европейцами, бросившими якорь у берегов Мадагаскара. Задолго до его превращения в пиратскую базу на остров прибывали волны мигрантов — торговцев, поселенцев и беженцев с берегов Индийского океана. На западном берегу Мадагаскара доминировали эндогамные сообщества выходцев из Восточной Африки и региона Персидского залива, говоривших на арабском и суахили, и занимавшихся морской торговлей в тесном контакте со странами исхода: они поставляли малагасийским королям оружие и предметы роскоши в обмен на рабов и тропические продукты. Восточное побережье Мадагаскара стало домом для политических и религиозных беженцев с Шри-Ланки, Суматры и других регионов восточной части Индийского океана, которые практиковали экзогамные браки и интегрировались в местные элиты в качестве интеллектуалов, магов, целителей и других «специалистов по ритуалу». В XVII веке ведущие европейские державы — Голландия, Британия и Франция — попытались основать на острове поселенческие колонии и масштабировать практику арабских работорговцев, паразитируя на внутренних войнах малагасийцев, чтобы продавать пленников в рабство на быстрорастущие плантации Маврикия и Реюньон. Для этого были необходимы тактические союзы с элементами малагасийского общества, готовыми к насилию против своих соплеменников в обмен на долю прибыли и огнестрельное оружие. Закономерным итогом такого подхода стали вооруженные восстания, приводившие к изгнанию колонистов. Способные лишь к наиболее примитивным формам взаимодействия с местным населением — торговле и войне — европейские поселенцы выглядели в глазах малагасийцев агрессивными дикарями.
Первые пираты, обосновавшиеся на Мадагаскаре, тоже участвовали в работорговле — в качестве легального бизнеса она служила прикрытием для морского разбоя. К тому же работорговля позволяла пиратам сбывать награбленное. По оценкам историков, которые приводит Гребер, средняя стоимость добычи, захваченной в ходе пиратского рейда, могла достигать 120 тысяч фунтов — потратить или инвестировать такие суммы, не привлекая внимания, в XVIII веке было не легче, чем сейчас. В 1690-е годы пиратское поселение Сент-Мари поставляло в Нью-Йорк обращенных в рабство пленных малагасийцев и часть своей пиратской добычи в обмен на провиант и оружие. В 1697 году, когда основатель поселения Адам Балдридж обманом заманил несколько десятков местных жителей на работорговое судно, малагасийские вожди напали на Сент-Мари, заставив Балдриджа бежать на Маврикий. Этот эпизод изменил отношения малагасийцев и пиратов — последние из колонизаторов, паразитирующих на локальных конфликтах, превратились в поселенцев, стремящихся создать новое общество вместе с коренным населением. Там, где пираты становились на сторону малагасийцев и защищали их от европейских работорговцев, им удавалось создать долговременные поселения и занять нишу «внутренних чужаков», выступающих посредниками во внутренних конфликтах малагасийцев, опираясь на специфическое «пиратское» понимание справедливости.
Такие альянсы стали возможными благодаря двум факторам: во-первых, в малагасийском обществе уже существовала посредническая роль «внутренних чужаков», которую впоследствии взяли на себя пираты; во-вторых, было найдено альтернативное решение проблемы, как сбывать награбленное. Большинство неевропейских мигрантов, прибывавших на Мадагаскар, были приверженцами авраамических религий и придерживались значительно более строгих нравов, нежели малагасийцы, особенно в вопросах сексуальности. Как правило, через несколько поколений эти патриархальные мигранты ассимилировались, однако на некоторое время они становились местной аристократией, монополизируя важные политические, торговые или ритуальные функции, и поддерживали свой статус при помощи системы запретов и жесткого контроля над женщинами и их сексуальностью. Такой контроль не мог не опираться на насилие или угрозы его применения, однако позволял управлять воспроизводством группы, поддерживая ее обособленность в качестве внутренних аутсайдеров: для малагасийцев такие мигранты оставались чужаками, а для чужаков они выступали малагасийцами.
На территории будущей Конфедерации Бецимисарака такой элитой стали не мусульмане, как это бывало обычно, а евреи, называвшие себя Зафи Ибрахим (Zafy Ibrahim, «внуки Авраама» на малагасийском) и первоначально жившие на острове Сент-Мари, который по-малагасийски называется Нуси-Бураха («остров Авраама»). Происхождение этой группы достоверно не известно — «внуки Авраама» могли быть выходцами из Йемена, Эфиопии или принадлежать к одной из исламских или христианских сект Среднего Востока и Северной Африки; когда в конце XIX века Мадагаскар стал французским колониальным владением, они идентифицировались как арабы и активно ассимилировались. Однако во второй половине XVII века Зафи Ибрахим существовали как обособленная группа, обладавшая монополией на ритуальный забой скота и занимавшаяся торговлей, и были известны своей склонностью к космологическим рассуждениям, а также ревнивым патриархальным отношением к женщинам.
К моменту прихода пиратов Зафи Ибрахим выступали в роли «специалистов ритуала» и посредников во внутренних конфликтах малагасийцев, организованных в эндогамные кланы численностью от 600 до 1600 человек. Несмотря на наличие институтов экономической взаимопомощи и демократического принятия решений ассамблеями, где поиск консенсуса мог занимать целые дни, реальная власть была сосредоточена в руках аристократической элиты, в которую входили главы доминирующих родов. Они распоряжались наиболее ценными ресурсами — скотом, необходимым для урегулирования споров и жертвоприношений, и женщинами, служившими в качестве основного «средства производства». Перманентный конфликт между кланами не позволял им разрастись и достичь подавляющего превосходства над противниками, поэтому власть главы рода действовала только в пределах его домохозяйства. «Внутренняя политика» кланов была сосредоточена на борьбе с попытками отдельных родов и семей отколоться и основать собственные кланы на незанятой территории, а также на контроле над фертильностью женщин и матримониальных стратегиях, нацеленных на удержание дочерей в пределах доминирующего рода. Женщины были средством накопления богатства и предметом политического торга: их похищали, выкупали, а также использовали в рамках брачных стратегий, направленных на увеличение ресурсов рода или клана, прежде всего — ресурсов человеческих.
Вполне вероятно, что, когда на Мадагаскар прибыли пираты, главы малагасийских кланов предложили им в жены своих дочерей — это было знаком дружбы и способом создать постоянный союз, сделав чужаков членами аристократических семей. Однако прибытие пиратов также открыло для амбициозных женщин из знатных родов новые социальные возможности: объединившись с пиратами, они осуществили одновременно политическую и сексуальную революцию против патриархального господства Зафи Ибрахим. У пиратов было оружие и награбленные сокровища, которые они могли предложить малагасийским вождям, но не было ни социальных связей, ни локального знания, необходимых для жизни на новом месте. Печальный опыт европейских поселенцев показывал обреченность попытки построить долговременные отношения с местным населением исключительно на основе насилия или торговли, не вникая в его культуру, обычаи и ожидания. В свою очередь, для малагасийских женщин браки с пиратами были каналом восходящей социальной мобильности: выходя замуж, они переставали быть пешками в мужской игре и могли освободиться от бремени социальных ограничений малагасийского общества, а поскольку у пиратов не было собственных семей, им не приходилось налаживать отношения с новыми родственниками. С другой стороны, знание малагасийками местных обычаев и традиций усиливало их позиции в отношениях с мужьями.
Гребер описывает появление новой социальной коалиции как «классический сценарий короля-чужака», когда распространенная в разных культурах тенденция отождествлять необычные, уникальные в своем роде объекты с внешними силами, управляющими предельными вопросами человеческого существования, получает буквальное воплощение. Европейские пираты-поселенцы в буквальном смысле пришли извне и были восприняты как альтернатива репрессивной аристократии «внуков Авраама» — внутренних чужаков, узурпировавших важные ритуальные функции. Экономической основной новых брачных союзов стало разделение труда между пиратами-добытчиками и их женами, занимавшимися ведением хозяйства и сбытом награбленного на рынках портовых поселений восточного побережья Мадагаскара, которые вскоре стали называть «городами женщин». Гребер подчеркивает, что браки пиратов и малагасиек были не столько формами традиционного мужского господства, сколько взаимовыгодными партнерствами, в которых обе стороны могли рассчитывать на взаимную лояльность и уважение. Выступая в роли торговых партнеров европейских мужчин, малагасийские женщины, получившие наименование вадимбазаха, «жены чужаков», добивались коммерческого успеха и приобретали серьезное политическое влияние в прибрежных поселениях. Чтобы закрепить этот успех, они стремились превратить своих детей — зана-малата — в обособленную эндогамную группу или новую аристократию, которая бы заняла нишу Зафи Ибрахим.
Быстрое развитие прибрежных городов сделало их лакомой добычей для малагасийской военной аристократии, желавшей взять под контроль морскую торговлю и утвердить примат патриархальных добродетелей и мужского господства, поставленный под вопрос эмансипацией пиратских жен. Бецимисарака появилась как политическая коалиция, восставшая против попыток установить такой контроль над «городами женщин» со стороны другой малагасийской конфедерации — Цикоа, первоначально возникшей как военный союз для защиты побережья от европейцев, но вскоре превратившейся в нечто вроде компрадорской элиты, живущей рэкетом и поставками «живого товара» европейским работорговцам. Рацимилахо был избран военным вождем Бецимисараки. Выступая против Цикоа как сын пирата, связанный со своим народом по женской линии, он поставил под сомнение сложившуюся иерархию кланов и место, которое в ней отводилось детям пиратов. В войне, продолжавшейся с 1712 по 1720 год, с обеих сторон сражались представители одного класса — младшего поколения малагасийских аристократических родов, — однако ставкой в этой борьбе была не только будущая форма социально-политического устройства, но и способ взаимодействия с европейцами: победа Рацимилахо и его союзников-пиратов означала формирование новой элиты зана-малата и отказ от работорговли, в экономику которой была встроена существующая компрадорская элита, представленная Цикоа.
Уже в момент своего создания Бецимисарака была политической инновацией, рожденной из смешения малагасийских и пиратских политических традиций. В ритуале принесения клятв, скрепляющих создаваемый политический союз, клянущиеся не обращались к высшим силам с просьбой наказать друг друга в случае отступления от принятых обязательств, но лишь призывали несчастья на головы своих врагов, желая друг другу здоровья и процветания. Гребер интерпретирует эти особенности как свидетельства того, что Бецимисарака создавалась как принципиально добровольное объединение:
[Клятвы] были способом сказать, что создаваемое политическое образование по существу не является формой принуждения, даже в смысле добровольного принятия обязательств, которые становятся принудительными, как только их принимают — общественного договора в классическом смысле слова, — но представляет собой коллективную трансформацию силы разрушения (пушек и пороха) в силу коллективного благосостояния и благополучия. Хотя многие малагасийские и африканские политические союзы действительно принимали форму классического общественного договора, договор о создании Бецимисараки... представляется как минимум осознанной попыткой отступить от этой формы.
Несмотря на то что европейские и малагасийские источники описывают Рацимилахо как монархического правителя, претендовавшего на неограниченную власть, в действительности он так и остался лишь военным вождем с временными полномочиями. Во время боевых действий он уделял особое внимание возвращению пленных врагов их семьям, отвергая возможность продажи пленников в рабство. После победы над Цикоа, он позволил главам родов сохранить свою власть, а также наделил их правом созыва ассамблеи с участием короля, на которой могло быть пересмотрено или отменено любое принятое решение. Хотя главы родов должны были выплачивать десятину в пользу «двора» Рацимилахо, в отсутствие санкций эти платежи оставались по существу добровольными, а сам королевский «двор» состоял из нескольких посланников, роль которых исполняли младшие дети аристократических семей, и личных рабов Рацимилахо, управлявших его хозяйством. Иначе говоря, власть Рацимилахо, как и власть малагасийских вождей и королей-пиратов до него, была имитацией: демонстрируя окружающим пиратские сокровища и личную харизму, они могли создать впечатление богатого королевского двора, но были не способны вмешиваться в повседневную жизнь подданных за пределами собственного домохозяйства, и в первую очередь — мобилизовывать их труд. Однако в случае Рацимилахо у воображаемых форм абсолютной власти возник побочный эффект: во время его правления, вошедшего в историю как период мира и процветания, эгалитарные тенденции малагасийского общества усилились как никогда ранее.
Как пишет Гребер, Рацимилахо ничем не отличался от других детей пиратов, будучи в буквальном смысле первым среди равных: его отец был обычным моряком, а мать принадлежала к одному из многих знатных малагасийских родов; размер полученного от родителей наследства был существенным, но не выдающимся. По мере взросления других детей пиратов их матери стремились превратить каждого из них в фигуру, аналогичную фигуре «короля», накапливая оружие, предметы роскоши и другие атрибуты власти, а также практикуя эндогамные браки. Постепенно дети пиратов заняли место Зафи Ибрахим и превратились в аристократию, осознанно культивирующую свое отличие от всех остальных, воспроизводя сценарий «короля-чужака» уже не на уровне всего общества, а на уровне отдельных родов и семей. В свою очередь, «все остальные» превратились в бецимисарака, приняв название политической коалиции в качестве этнонима, который на Мадагаскаре используют как эквивалент греческого демоса — для обозначения «всех» и одновременно «всех остальных», не вошедших в состав элиты. Обособление зана-малата запустило процесс схизмогенеза, сделав общество бецимисарака более эгалитарным, поскольку, будучи противопоставлены элите, все его члены оказывались равны друг другу. Хотя во второй половине XVIII века основанное Рацимилахо королевство распалось под влиянием французских работорговцев, на его месте остался «народ» бецимисарака, известный своей приверженностью эгалитарным формам жизни.
С точки зрения Гребера, в этом и заключается важнейший результат политического эксперимента, которым была Бецимисарака, — осознанной попытки малагасийцев и примкнувших к ним европейских пиратов создать новую форму коллективной жизни и одновременно произвести впечатление на окружающих. В этом смысле Бецимисарака представляет собой не просто типичный утопический проект эпохи Просвещения, но, возможно, первый такой проект, подтверждая сквозной тезис книги: Просвещение никогда не было сугубо европейским или «западным» явлением. Репрессивные стороны его наследия, как и всегда, нуждаются в критике, однако тотальное отрицание этого наследия во имя «деколонизации» означало бы отказ и от его эмансипаторного потенциала, далеко не исчерпанного: в конце концов, как пишет Гребер, Просвещение было едва ли не единственным в истории примером «интеллектуального движения, организованного главным образом женщинами, за пределами официальных институций вроде университетов и с явно выраженной целью подрыва всех существующих структур власти».