Почему ученым нужно забыть про этику и эстетику
Юлия Штутина — о книге Майкла Стревенса «Машина знания»
После Тридцатилетней войны и Ньютона наука стала развиваться невиданными темпами и до сих пор не намерена их сбавлять. По мнению историка и философа науки Майкла Стревенса, это случилось потому, что ученые исключили из своих дискуссий этику, эстетику, философию и теологию и поставили во главу угла чистую эмпирику. Такой отказ буквально от всего человеческого далеко не всем дался легко — но тем интереснее и драматичнее стал соответствующий этап научной истории. Именно ему посвящена пока не переведенная на русский язык книга Стревенса, о которой Юлия Штутина рассказывает в рамках совместного проекта «Горького» и премии «Просветитель».
Michael Strevens. The Knowledge Machine: How Irrationality Created Modern Science. New York, Liveright Publishing, 2020. Contents
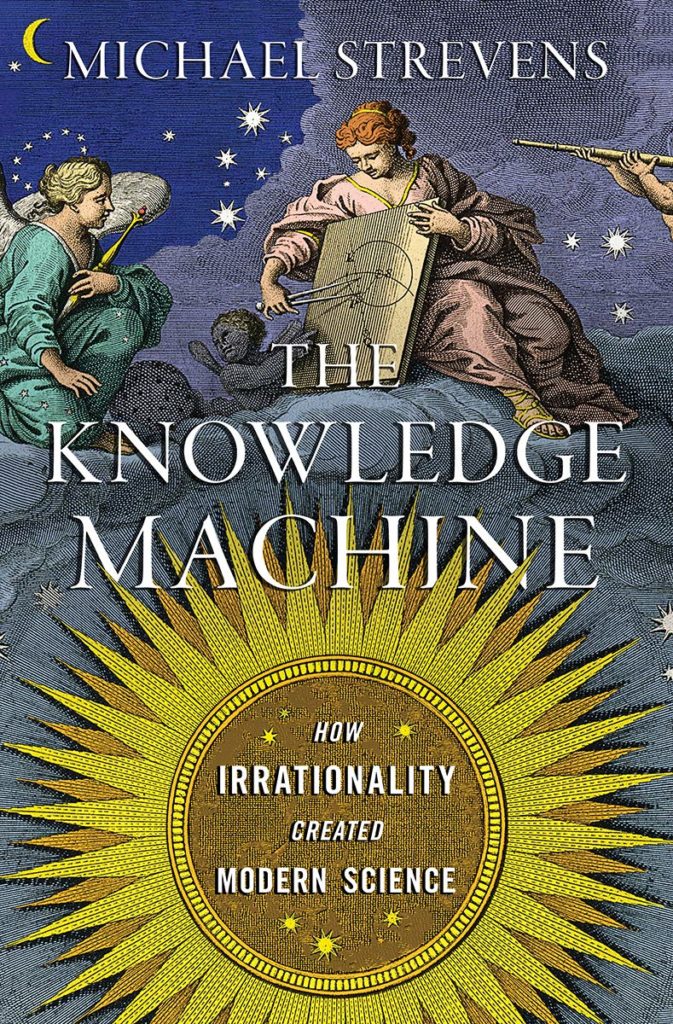 Те, кому доводилось хоть немного погружаться в современную философию науки, наверняка задавали себе вопрос, с кем они — с Карлом Поппером или с Томасом Куном? Во что верить: в выбор наилучшего объяснения по мере фальсификации прочих или в смену парадигм, которая наступает под тяжестью нового знания? Майкл Стревенс, декларирующий свою идеологическую близость к Куну, пользуется методами Поппера и создает занимательный и многообещающий синтез, который обходит узкие места в концепциях обоих философов науки.
Те, кому доводилось хоть немного погружаться в современную философию науки, наверняка задавали себе вопрос, с кем они — с Карлом Поппером или с Томасом Куном? Во что верить: в выбор наилучшего объяснения по мере фальсификации прочих или в смену парадигм, которая наступает под тяжестью нового знания? Майкл Стревенс, декларирующий свою идеологическую близость к Куну, пользуется методами Поппера и создает занимательный и многообещающий синтез, который обходит узкие места в концепциях обоих философов науки.
Стревенс — профессор Нью-Йоркского университета (NYU). Там он читает вводные курсы по философии науки и ведет аспирантские семинары по проблемам индуктивной логики, логического эмпиризма и т. д. До «Машины знания» он опубликовал три монографии, посвященные комплексным системам и вероятности, соотношению эмпирических данных с научными гипотезами. «Машина знаний» — его первая книга, адресованная широкой аудитории.
«Доверять следует <...> рассуждениям только в том случае, если они окажутся в согласии с явлениями». Этот вполне современно звучащий тезис был сформулирован в IV в. до н. э. и принадлежит Аристотелю. А вот что писал в конце XVII века Исаак Ньютон: «Причину же этих свойств тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю. Все же, что не выводится из явлений, должно называться гипотезою, гипотезам же метафизическим, физическим, механическим, скрытым свойствам, не место в экспериментальной философии. <...> Довольно того, что тяготение на самом деле существует и действует согласно изложенным нами законам, и вполне достаточно для объяснения всех движений небесных тел и моря». Наконец, уже в наше время Ричард Фейнман сказал: «Опыт, эксперимент — это единственный судья научной «истины». Аристотеля и Ньютона разделяют две тысячи лет, Ньютона и Фейнмана — меньше трехсот. Говорят они как будто об одном и том же, но на самом деле между Аристотелем и Ньютоном — бездна, а между Ньютоном и Фейнманом — прямая дорога, рассуждает Стревенс. Где же проходит водораздел, в чем принципиальная разница?
В привычных историях науки мы найдем перечень достижений, которые безусловно помогли развитию астрономии, биологии, физики, математики: новые технологии изготовления и обработки стекол для телескопов и микроскопов, печатные станки и многое другое. Такие списки, однако, не объясняют всех достижений научной революции XVII века: да, для Галилея и Ньютона необходимы были успехи математики, но для скачка химических дисциплин они не нужны; достижения Бойля и Гюйгенса непредставимы без развития атомизма, но глубокие знания о взаимодействиях молекул необязательны для создания теории эволюции.
Стревенс сравнивает подходы Аристотеля и Ньютона. Оба они стремились к созданию общей теории движения тел. Но Аристотелю, в отличие от Ньютона, необходимо было постоянно подвергать эмпирические наблюдения философским проверкам. Ньютон же удовлетворялся строгими количественными проверками: многочисленными, последовательными и очень детальными. Ему было мало широких мазков для описания общих принципов движения планет, ему нужны были подробные объяснения различий в траекториях, описанных Кеплером.
Накопление эмпирических данных, внимание к мельчайшим деталям, вся эта скучная, монотонная, напрочь лишенная поэзии работа — и есть суть научного метода. Но работает он, по мнению Стревенса, только тогда, когда соблюдается «железное правило». В коротком виде оно состоит из двух частей: во-первых, споры ученых должны решаться только при помощи эмпирических проверок, во-вторых, выбор между двумя гипотезами должен быть продиктован экспериментом или измерением, причем эксперимент или измерение планируются так, чтобы предполагаемым результатом стало подтверждение одной из гипотез, но не обеих сразу.
Речь идет, в сущности, о процедурном консенсусе. На поверхности — это довольно простая вещь. В действительности, она требует выполнения четырех условий:
1) все участники консенсуса, то есть ученые, договариваются о том, что оперируют понятием «объяснительная сила» (способность теории описывать свой предмет);
2) публичная научная дискуссия и частное научное мнение строжайше разграничены;
3) главное требование к публичной научной дискуссии — объективность;
4) научная дискуссия относится только к результатам эмпирических проверок, а не к философской связности, теоретической красоте и т. д.
Условия для выполнения «железного правила» Стревенса сами по себе несложны, но они появились недавно. Своим существованием они обязаны научному сообществу, а точнее, тому обстоятельству, что это сообщество — социальный институт, а не «голем, хрустальная туфелька, птица-неврастеник или коралловый риф».
Стревенс подчеркивает, что этому социальному институту свойственны внутренние противоречия и непоследовательность, и напоминает о замечательном исследовании лабораторной жизни, проведенном в 1970-х французским антропологом Бруно Латуром. Латур наблюдал за учеными в лаборатории Роже Гиймена, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 1977 года. Антрополог пришел к выводу, что сотрудники лаборатории были в состоянии договориться о методологии проведения эксперимента, но не о методологии объективной оценки результатов: в ход шел «их моральный, психологический, политический и культурный багаж». Однако «железное правило» Стревенса учитывает неустранимую субъективность: ученым не надо договариваться о том, что их исследования этичны и (или) внутренне красивы. Им нужно только договориться о том, каким объективным образом можно получить эмпирические данные и как их интерпретировать.
Следовать этому правилу между тем тяжело. Стревенс подробно разбирает казус Артура Эддингтона, британского астрофизика, наблюдавшего за солнечным затмением 1919 года. Данные Эддингтона должны были подтвердить правоту Эйнштейна и его общей теории относительности. К тому же Эддингтон хотел скорейшей оттепели в британско-германских научных кругах. Когда же результаты параллельного эксперимента в Бразилии показали данные, отличные от предсказанных Эйнштейном, Эддингтон счел «не свои» результаты неправильными потому, что они мешали его политической и теоретической программе. Еще пример (у Стревенса их намного больше): великий Луи Пастер тоже не брезговал ненаучными методами для дискредитации своих соперников. Его знаменитый спор с натуралистом Феликсом Пуше о невозможности самозарождения жизни стал важной страницей в истории науки, только в примечаниях к этой странице редко вспоминают, что комиссия французской Академии наук, призванная разрешить спор между учеными, целиком состояла из сторонников Пастера. Пуше отказался участвовать в таком ангажированном диспуте.
Стоит еще раз вспомнить, что научное сообщество — социальный конструкт, и его участники могут быть движимы ненаучными резонами. Тот же Пастер, кумир ученых всей Европы (не говоря уже о Франции, где его только что на руках по улицам не носили) едва не остался один-одинешенек в Высшей Нормальной школе, когда запретил студентам и преподавателям курить в помещениях. Слушатели, лаборанты и ученые дружно пригрозили Пастеру, что сейчас они это учебное заведение покинут и не вернутся никогда. Запрет на курение пришлось отменить. Какое это имеет отношение к науке? Да никакого, если говорить о чистых результатах экспериментов. Только этих результатов добиваются не абстрактные ученые единицы, а живые люди со своими научными, религиозными, эстетическими, да хоть бы и гигиеническими убеждениями. Работают они в контексте современных им общественных и прочих норм. И все эти факторы влияют на научный процесс. Следовательно, все субъективные вводные должны быть исключены любой ценой — в том числе полной, по сути, дегуманизацией.
Стревенс полагает, что эта дегуманизация — иррациональна (увы, он не дает строгого определения рациональности в книге). Но выросла эта идея исключения этики, эстетики и прочего из науки из объективной исторической необходимости. После Тридцатилетней войны жители Западной Европы оказались подданными двух режимов: церковного и светского. Залогом выживания — в первую очередь, интеллектуального — стало непреложное (железное, собственно говоря) правило: никогда не смешивать эти две сферы. Для Аристотеля такая ситуация была бы немыслима, для Ньютона она стала спасением. Великий физик в 1675 году оказался на грани профессиональной катастрофы: кембриджский Тринити-колледж, к которому принадлежал Ньютон, требовал, чтобы его преподаватели в течение семи лет принимали сан священника. Ньютон, родившийся в лоне англиканской церкви, к этому времени не разделял англиканской доктрины и ни при каких обстоятельствах не согласился бы отказаться от своей точки зрения. Конфликт по церковной линии означал бы для него потерю места в колледже и непоправимый урон репутации. К счастью, влиятельные друзья сумели донести тонкость ситуации до короля Карла II, и тот разрешил Ньютону не принимать сан. Таким образом, Ньютон остался при своих еретических воззрениях, но они никак и никогда не смешивались с его занятиями физикой и математикой.
Стревенс, сам преподаватель, завершает книгу воззванием к другим педагогам: проповедуйте (не объясняйте, не рационализируйте) будущим ученым скромность и непредвзятость, пугайте их грехами спекуляции и самолюбования. Спасение от больших несчастий — пандемий, изменения климата и прочего — зависит от успехов науки. Но для того чтобы эта машина знаний успешно функционировала, с ней должны работать люди, готовые вынести свои идеалы и предубеждения за скобки. Определенно, это полезный совет, и его стоит принимать во внимание не только физикам с биологами, но и гуманитариям. Хотя бы иногда.
P. S.: Если есть книга, которую надо срочно перевести на русский язык и издать большим тиражом, то это «Машина знания». Таково объективное и лишенное эмоций мнение автора этого текста.