Почему фукс — это еще не бурсак
О книге Ребекки Фридман «Маскулинность, самодержавие и российский университет, 1804–1863»
Высшее образование во все времена служило социальным лифтом, и Россия при Николае I не была исключением. При этом власти строго следили за тем, чтобы образованное сословие состояло из воспитанных и благонадежных людей, поэтому поведение студентов регулировали строгие кодексы. Однако студенческие братства имели свои представления о том, как должен вести себя настоящий бурсак. Тому, как уживались эти порой взаимоисключающие принципы, посвящена книга Ребекки Фридман «Маскулинность, самодержавие и российский университет, 1804–1863». Для читателей «Горького» о ней рассказывает Ирина Знаешева.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Ребекка Фридман. Маскулинность, самодержавие и российский университет, 1804–1863. Бостон — Санкт-Петербург: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2023. Перевод с английского Николая Проценко. Содержание
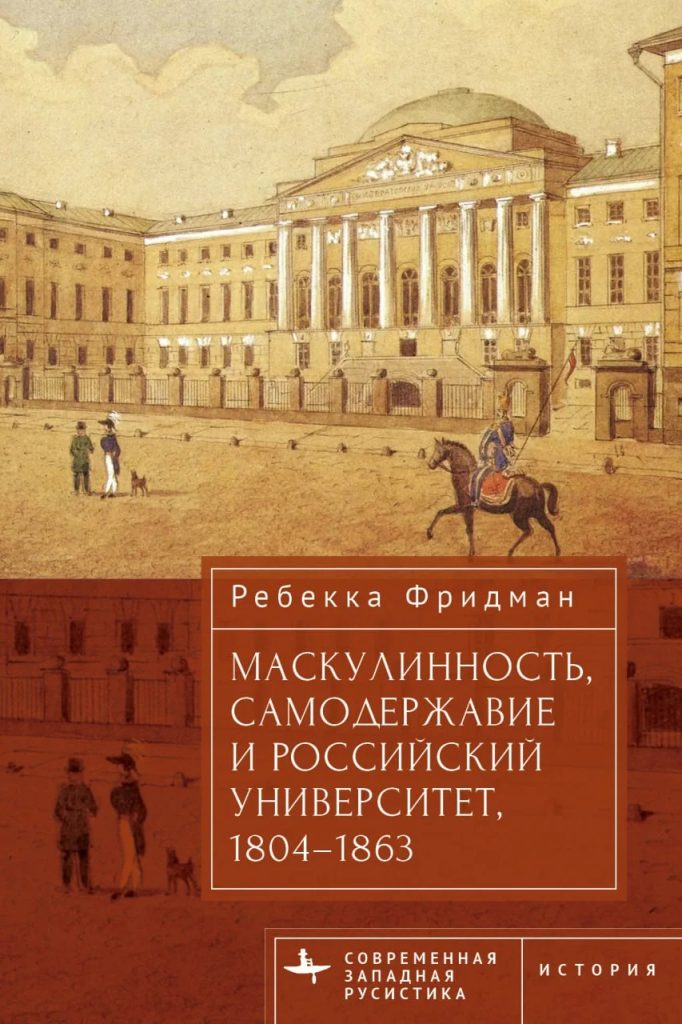 Подобно тому, как мы не замечаем шарообразности Земли, ступая по ней, мы едва ли осознаем, как воздействуют на наши взгляды привычные социальные институты, частью которых мы с неизбежностью становимся на протяжении своей жизни. Одним из важнейших в их ряду оказывается университет, где происходит становление молодого человека как личности и как профессионала в выбранной сфере. И если мы вполне можем отрефлексировать формирование профессиональных установок (так, к примеру, врач, глядя на человека, видит диагноз и сам отдает себе в этом отчет), то более тонкие установки социального плана становятся частью нашего мировоззрения порой неощутимо. В равной степени смелое и скрупулезное исследование, осуществленное Ребеккой Фридман (год публикации на английском языке — 2005-й), предлагает нам на основании как официальных бумаг, так и личных документов, дневников и воспоминаний взглянуть на механизм формирования гендерной идеологии в ее сопряжении с политическим строем в российских университетах периода николаевской России.
Подобно тому, как мы не замечаем шарообразности Земли, ступая по ней, мы едва ли осознаем, как воздействуют на наши взгляды привычные социальные институты, частью которых мы с неизбежностью становимся на протяжении своей жизни. Одним из важнейших в их ряду оказывается университет, где происходит становление молодого человека как личности и как профессионала в выбранной сфере. И если мы вполне можем отрефлексировать формирование профессиональных установок (так, к примеру, врач, глядя на человека, видит диагноз и сам отдает себе в этом отчет), то более тонкие установки социального плана становятся частью нашего мировоззрения порой неощутимо. В равной степени смелое и скрупулезное исследование, осуществленное Ребеккой Фридман (год публикации на английском языке — 2005-й), предлагает нам на основании как официальных бумаг, так и личных документов, дневников и воспоминаний взглянуть на механизм формирования гендерной идеологии в ее сопряжении с политическим строем в российских университетах периода николаевской России.
Вообще говоря, изучение того, как внедряется и работает идеология в разных сферах политической и социальной жизни, — дело увлекательное и имеющее свою историю. Можно коротко упомянуть в этой связи и работы самого практического, инструментального даже толка, посвященные коммунистической пропаганде и опубликованные в 1930-е годы психотехниками Н. Шпильрейном и Д. Рейтынбаргом в Советском Союзе и политологами и социологами Г. Лассуэллом и Д. Блюменшток в Соединенных Штатах; и аналитические труды по механизму создания и воздействию на массы пропаганды в период Первой мировой войны; и ряд публикаций, освещающих проблематику индоктринации в советском школьном обучении (этот проект активно работал в Санкт-Петербурге в начале 2000-х) и т. д. и т. п. Содержательное же исследование Ребекки Фридман сополагает две, на первый взгляд, несоприкасающиеся области — гендерные стереотипы и политическое устройство государства. Тем не менее автор логически обосновывает свой подход, опираясь на работы теоретиков гендера и исходя из конкретной исторической ситуации николаевской России, когда университеты стали инструментом подготовки будущих государственных мужей — «послушных и респектабельных мужчин». Далее перед нами последовательно разворачивается увлекательная картина того, каким образом этот процесс происходил в рамках университета как формальной структуры и каким образом неформальное студенческое социальное пространство задавало свои представления и стандарты маскулинности.
За коротким историческим экскурсом следует подробный разбор административного устройства российских университетов (в центре внимания автора — Московский, Санкт-Петербургский и Казанский), которому посвящена вся первая глава. Среди приведенных фактов довольно поразительным кажется количество студентов в университетах Российской империи: согласно разным источникам, в 1836 году их было около 1500, в 1844 году — около 2500, в 1848 году — около 3400. Для сравнения, в 2020 году, по данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, количество студентов в российских вузах составляло около семи миллионов человек, включая иностранцев. Эти цифры невозможно объяснить приростом численности населения: согласно первой всеобщей переписи населения, проведенной в конце XIX века, в стране проживало более 125 миллионов человек — вполне сопоставимо с сегодняшними показателями. Помимо чисто экономических факторов, на эти цифры оказывают влияние и социальные: доступ к университетскому образованию имели не все сословия, поскольку, по мнению Николая I, знания полезны только тогда, когда они соответствуют социальному положению человека (формально в университет могли поступить и крестьяне-вольноотпущенники, пусть и без права получения документа об образовании, но по сути подразумевалось, что для обучения низших сословий достаточно приходского училища). При этом отмечается, что российское дворянство не стремилось получать университетское образование.
С учетом заданного ракурса исследования логично посмотреть, какие сферы университетской жизни как почти исключительно мужского сообщества специально регулировались административным регламентом и проверялись надзорными органами, особенно принимая во внимание взгляды главы Комитета устройства учебных заведений при Министерстве народного просвещения, созданного в 1826 году, адмирала А. С. Шишкова и министра просвещения, назначенного в 1833 году, С. С. Уварова. Первыми добродетелями почитались мораль и манеры, подробно прописанные в университетских кодексах; сюда же относилась и благонадежность. Специально назначенным инспекторам предписывалось следить как за академическими успехами студентов, так и за тем, чтобы они «отличались скромностью, пристойностью и вежливостью». Постоянно зримо присутствуя в жизни студентов, инспектор должен был «контролировать нравственность» и «следить за тем, чтобы молодые и неопытные» студенты «не предавались разврату и не заводили дурных знакомств». Студент, уличенный, к примеру, в назойливом лорнировании дамы, считался нарушителем приличий и мог получить выговор. Иными словами, достойный муж отечества, в соответствии с требованиями государства, должен быть опрятен, послушен, благопристоен, а также обязан был отрешиться от присущих молодости порывов страстей. Впрочем, подавлялась сексуальность не только в духе «опасных связей», но и вообще всякая: женатые мужчины не могли поступить в университет, а женитьба во время учебы означала исключение. Только чистота и опрятность, послушание и порядок.
Подобная «цивилизующая миссия», взятая на себя Николаем I в отношении российского студенчества и реализуемая посредством неусыпного контроля и системы поощрений и наказаний, неизбежно сталкивалась с его живым существованием и полнокровием молодых сил. В последующих главах разворачивается картина публичных и приватных (или полуприватных) пространств, в которых молодым людям предъявлялись иные представления о маскулинности. Ожидаемо, что, помимо собственно общежития, такими пространствами оказываются кабаки и трактиры, где мужское начало воплощается в удали в пьянстве, покушении на приличия и законность, а также агрессивном поведении. Это противоречивым образом работало и на формальный идеал маскулинности, позволяя обнаруживать те сферы, откуда можно было черпать энергию, необходимую для демонстрации авторитета перед теми, кто стоял ниже по социальной лестнице.
Студенческие братства — освященная веками традиция, совершенно не укорененная ни в советских, ни в современных российских университетах (не будем же мы всерьез относить к ним профсоюзы и студенческие научные общества), — существовали в имперской России, хотя и остаются малоизученной областью. Они дают нам новое измерение маскулинности: не будучи частью формальной структуры и находясь даже в состоянии некоторой фронды по отношению к ней, они построены на собственных строгих кодексах, полагают честь важнейшей добродетелью, отстаивать которую следует на дуэли, устанавливают обряды и ритуалы, закрепляющие ощущение принадлежности к группе. Описание этого важного чувства находим и в любопытном документе — рукописи графа А. А. Бобринского «Студенты 40-х годов студентам 70-х годов», написанной после его поступления в Санкт-Петербургский университет*Цит. по: Тихонов И. Студенческие корпорации Санкт-Петербургского университета в описании графа А. А. Бобринского // Клио No 10 (130), 2017. С. 66–76.: «Решаются главные дела собраний; приступают к баллотировке нового студента, и первокурсник узнает, что он избран, что необходимые 2/3 голосов нашлись в его пользу. Он избран — но ему еще далеко до полноправного бурсака. Он фукс покудова, т. е. роль его чрезвычайно маловажна. Он обязан вполне слушать и повиноваться всякому студенту во всем том, что касается общественных дел и пиров». Важно здесь не только само это чувство, но и то, что практики, связанные с его поддержанием, также находятся в сложных диалектических отношениях с формально установленными дисциплинарными кодексами, о чем практически напрямую говорится в рукописи Бобринского: «Часто в формальностях видны лишения свободы... и предпочитают крик и гвалт правильному пению. Есть люди, которые найдут лишним учреждение фуксов и повторят все ту же фразу, что будемте все равны! А в этих-то формальностях и коренится основа порядка и избежание шума и бестолковщины».
В пятой главе рассматривается еще одно важное пространство маскулинности — домашний очаг. Молодые люди отдалялись от своих семей как буквально, уезжая на учебу в университет, так и эмоционально и идейно. Это порождало не только проблему отцов и детей, но и побуждало молодых людей к поиску новых родственных связей через родню или друзей. Учитывая общий идеологический фон, родственные связи становились сложным фактором влияния на отношения студентов с государством и университетом.
Исследование Ребекки Фридман, замечательно переведенное Николаем Проценко, позволяет свершиться главной магии науки: в голове в процессе чтения что-то щелкает, и разрозненные фрагменты знаний и представлений о предмете, словно под действием магнетизма, складываются в целостную, многослойную картину.