Почему Французская революция перестала быть «великой»
Новый взгляд на одно из ключевых событий в мировой истории
Историки Дмитрий Бовыкин и Александр Чудинов задались целью рассказать о Французской революции, избавившись от идеологических шаблонов разного толка (в первую очередь, советско-марксистских), но в итоге не дали оригинального объяснения ее причин и результатов. Однако в отличие от многих исследователей авторы книги внимательно проанализировали внутреннюю динамику социально-политической борьбы 1789–1799 годов, благодаря чему смогли непредвзято и по-новому взглянуть на одно из важнейших событий в мировой истории. По просьбе «Горького» о книге «Французская революция» рассказывает Николай Проценко.
Дмитрий Бовыкин, Александр Чудинов. Французская революция. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. Содержание
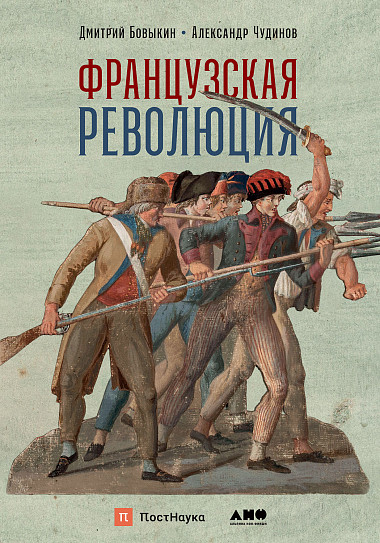 Неочевидная неизбежность
Неочевидная неизбежность
Монография Дмитрия Бовыкина и Александра Чудинова подводит итог трех десятилетий их работы над созданием новой для нашей историографии концепции Французской революции, не имеющей почти ничего общего с тем подходом, который исповедовали классики советской исторической школы (прежде всего следует упомянуть Альберта Манфреда и Анатолия Адо — последний был дипломным руководителем Дмитрия Бовыкина в МГУ). Иными словами, революция 1789 года больше не рассматривается как безусловно прогрессивное событие, как важнейшая веха в процессе перехода от феодализма к капитализму и т. д., а заодно и теряет привычное для советской традиции определение «Великая».
«В России... XIX века апологетика Французской революции... приобрела среди либеральной интеллигенции такой масштаб, что превратилась, говоря словами русского писателя и революционера Александра Ивановича Герцена, в настоящий культ. Во французских событиях оппозиционно настроенные российские интеллектуалы хотели видеть предсказание будущего своей страны. Этот квазирелигиозный культ проявился и в том, что только в России — и больше нигде, даже во Франции! — Революцию XVIII века стали называть Великой. Формулировка оказалась настолько живучей, что и сегодня у нас в стране слабо знакомые с исторической литературой люди все еще оперируют причудливым словосочетанием „Великая французская революция”», — утверждают авторы на первых страницах книги.
С этим вряд ли стоит спорить — в конечном итоге, наличие или отсутствие определения «Великая» не меняет масштаб самого события. Более того, такой дебютный ход настраивает читателя на то, что дальше революция будет анализироваться в контексте актуальных зарубежных исследований, но те, кто хотя бы немного с ними знаком, практически сразу испытают некоторое недоумение.
Один из главных теоретических вопросов, определяющих то или иное понимание Французской революции, заключается в том, была ли она неизбежной. Бовыкин и Чудинов ставят его в самом начале первой главы, но внятного ответа так и не дают. Отказываясь от «классической» (читай: советской) интерпретации революции, они переходят к альтернативному подходу — не называя, впрочем, его представителей, — который подразумевает, что «говорить о системном кризисе общества Старого порядка нет никаких оснований». Авторы явно склоняются к этой точке зрения, но тут же выдвигают крайне спорный тезис, утверждая, что «Франция XVIII века была богатой, быстро развивавшейся страной с мощной экономикой, которая с 1720-х по 1780-е годы переживала продолжительный и устойчивый рост». Далее они уточняют свое представление о Франции Старого порядка, дав ей такое определение: «Бедное государство в богатой стране».
Однако существует множество свидетельств, согласно которым все было ровно наоборот. Вот что писал, к примеру, Адам Смит, приступивший к работе над своим «Богатством народов» именно во Франции в середине 1760-х годов:
«Если не считать Руана и Бордо, ни в одном из парламентских [т. е. тех, где находились высшие судебные учреждения Старого порядка] городов Франции не существует значительной торговли и промышленности, и низшие слои населения этих городов, существующие главным образом за счет расходов членов судов и тех, кто судится в них, отличаются праздностью и бедностью... В других парламентских городах Франции, по-видимому, вложено в дело ненамного больше капиталов, чем это необходимо для удовлетворения их собственных нужд, т. е. чуть-чуть больше минимального капитала, который может найти в них производительное применение. То же самое можно сказать и о Париже».
Адам Смит умер спустя год после начала Французской революции, но вряд ли бы удивился тому, что после свержения Людовика XVI власть во Франции оказалась в руках жирондистов — главным образом выходцев из «образцового» капиталистического региона Бордо. Хорошо описана современниками и чудовищная нищета французского крестьянства, «рожденного для страданий», как утверждалось на одной из популярных гравюр того времени. Правда, аграрным противоречиям Старого порядка, которые внесли огромную лепту в формирование революционной ситуации, авторы книги уделяют не слишком много внимания.
Вместо этого анализ событий, предшествовавших революции, сфокусирован на известных финансовых проблемах Старого порядка — огромных долгах, оставшихся Франции в наследство от неудачной для нее Семилетней войны, и неравномерном распределении налогового бремени. Собственно, это и вызвало фискальный кризис, который, как показывают современные западные теоретики революций, такие как Рэндалл Коллинз, Теда Скочпол и Джек Голдстоун, является одним из обязательных условий возникновения революционной ситуации.
Но фискальный кризис, как известно, был далеко не единственной проблемой, с которой столкнулся Старый порядок в последние годы своего существования — неслучайно некоторые французские историки употребляли понятие «кризис» во множественном числе: crises d’Ancien Régime. Фактически Бовыкин и Чудинов признают правоту такой постановки вопроса, упоминая о регулярных сельскохозяйственных кризисах Старого порядка, о невыгодном для Франции торговом договоре с Англией 1787 года, который сразу же погрузил в кризис промышленность, о нарастающем ощущении отставания от Англии, об идеологическом кризисе, выразившемся в широком распространении идей Просвещения, о министерской «чехарде», принципиальной невозможности провести налоговые реформы и т. д. Но ситуация, предшествовавшая революции, согласно обсуждаемой книге сложилась в результате простого совпадения разных негативных факторов — авторы признают уникальность этой ситуации, но как будто опасаются говорить о системном кризисе, «которого не было», чтобы не вступить на поле той теории, от которой они хотят уйти.
Дискуссия на старой почве
Между тем исследования революций, проведенные в последние десятилетия, демонстрируют, что традиционный нарративный подход историков не всегда состоятелен. Например, Теда Скочпол анализирует Французскую революцию в контексте китайской и русской революций начала ХХ века, в результате чего аргумент о системном кризисе приобретает еще больший вес. «Во Франции XVIII в., России начала XX в. и Китае середины XIX — начала XX в. старорежимные монархии оказались равно неспособными осуществить достаточно фундаментальные реформы или содействовать быстрому экономическому развитию для того, чтобы противостоять и выдерживать особую интенсивность военных угроз из-за рубежа, с которыми столкнулся каждый из этих режимов», — констатирует Скочпол в своей книге «Государства и социальные революции» (М.: Издательство Института Гайдара, 2017). Однако нам ничего не известно о том, знакомы ли авторы книги с этой и другими фундаментальными работами современных теоретиков революции.
Выход из этой непростой ситуации предлагается довольно тривиальный. В последней главе книги, посвященной наследию Французской революции, сообщается, что, «хотя Революция зачастую воспринимается как радикальный разрыв с прошлым, она по многим направлениям продолжала, углубляла и даже усугубляла то, что было характерно для Старого Порядка», а в качестве одного из примеров приводятся революционные и Наполеоновские войны, в ходе которых зачастую ставились те же внешнеполитические цели и реализовывались те же планы, что вынашивались королями Франции.
Такая оценка истоков Французской революции, разумеется, не нова. Еще в первой половине XIX века Алексис де Токвиль в знаменитой книге «Старый порядок и Революция» писал, что для понимания Французской революции гораздо важнее обращать внимание не на разрыв, а на преемственность со Старым порядком: революция, полагал Токвиль, лишь быстро доломала то, что само бы ушло в прошлое эволюционным путем. Для своего времени это была очень важная идея, поскольку даже спустя полвека после событий 1789 года их однозначной оценки во французском обществе не было, поэтому требовался некий компромисс между сторонниками и противниками революции. Токвиль предложил нечто вроде центристского консенсуса — и либералы, и консерваторы до сих пор находят в его интерпретации революции нечто свое.
Токвилевское понимание Французской революции нередко противопоставляется марксистскому, поэтому неудивительно, что Бовыкин и Чудинов склоняются именно к нему (впрочем, ни разу не упомянув в работе Токвиля). Однако и та, и другая версия, эти два «больших рассказа» о Французской революции, в конечном счете оказываются слишком идеологизированными — а заодно и умозрительными, ведь и Маркс, и Токвиль не были свидетелями ее событий, а научная социология тогда делала лишь первые шаги.
Поэтому в последние годы были предложены новые интерпретации Французской революции, позволяющие избежать знакомых схем. Автор одной из них — американский исследователь Джон Маркофф — в пока не переведенной на русский книге «Отмена феодализма» (1996) сосредоточился на скрупулезном анализе наказов с мест Генеральным штатам 1789 года, которые, по его мнению, позволяют понять мотивы всех задействованных в революции сторон и ее динамику в целом. Именно за счет этих наказов, полагает Маркофф, сложился главный ударный альянс революции — между крестьянством и буржуазией, — который и покончил с сеньориальным режимом, хотя у каждой из этих групп были свои претензии к Старому порядку.
Однако у авторов нашей книги с французским крестьянством получилась любопытная вещь: например, при анализе состава Генеральных штатов 1789 года указывается, что подавляющая часть депутатов представляла только интересы горожан, но никак не большинства сельского населения страны. Однако исследование Маркоффа демонстрирует как раз обратное: если в преддверии революции ключевой проблемой, ради которой собирались Генеральные штаты, действительно был налоговый тупик Старого порядка, то по мере ее разворачивания интересы крестьян и горожан совпали именно в том, чтобы бесповоротно уничтожить сеньориальные права, и ни о какой преемственности между Революцией и Старым порядком здесь не может быть и речи. Но в книге Бовыкина и Чудинова наказам 1789 года посвящено лишь несколько строк, а знакома ли им работа Джона Маркоффа, опять же, остается лишь догадываться.
Не хотелось бы подозревать уважаемых российских ученых в том, что они незнакомы с работами исторических социологов, которые в последнее время проделали огромную работу по анализу причин и механизмов революций, но впечатление ограниченной теоретической базы и правда может возникнуть. Из исследователей, занимавшихся историей Французской революции в ХХ веке, они, как правило, обращаются непосредственно лишь к Альберту Манфреду и французу Франсуа Фюре, который как-то сказал, что Французская революция закончилась, хотя из обсуждаемой книги можно сделать и прямо противоположный вывод: «Достаточно посетить любую протестную манифестацию в сегодняшней Франции, чтобы своими глазами увидеть, сколь широко востребованы там образы, символы и лозунги Французской революции». Но почему идеалы 1789 года так востребованы в современном мире, увы, не объясняется.
Апология Термидора
Но в одном аспекте книгу Дмитрия Бовыкина и Александра Чудинова следует признать несомненной удачей — речь о той ее части, которая посвящена событиям между 9 термидора и 18 брюмера, то есть между свержением якобинской диктатуры и падением режима Директории. Советские историки уделяли этому периоду революции гораздо меньше внимания, чем ее «восходящей линии», нередко даже сомневаясь в том, что он достоин включения в рамки Великой французской революции. Авторы книги успешно ликвидируют этот пробел. Собственно, с изучения указанного периода и началась академическая карьера одного из них: защищенная в 1996 году кандидатская диссертация Дмитрия Бовыкина называлась «От Термидора к Директории: политическая борьба вокруг принятия Конституции III года республики».
В оценке Термидора Бовыкин и Чудинов исходят из того, как воспринимали его современники, увидевшие в падении Робеспьера продолжение революции. «31 мая [1793 года] революцию совершил народ, 9 термидора свою революцию совершил Национальный Конвент; Свобода в равной мере аплодирует обеим», — говорилось в обращении Конвента к французам. Именно здесь стремление авторов уйти от устоявшихся идеологических оценок выглядит наиболее убедительно: они показывают, что попытки поделить термидорианцев на «правых» и «левых» лишены оснований, поскольку пережившие якобинскую диктатуру депутаты Конвента не составляли никаких политических группировок или «партий». Речь в то время шла о жизни и смерти. В ответ на вопрос, что он делал при Терроре, аббат Сийес ответил: «Я оставался жив».
Однако режим Директории нельзя воспринимать как некий переходный, а следовательно, малозначимый период между Робеспьером и Наполеоном, подчеркивают авторы. При этом они полемизируют с известной концепцией Франсуа Фюре, считавшего якобинскую диктатуру неким «заносом» революции, которая после свержения Робеспьера вернулась к прежней линии и логике развития. Напротив, вся «восходящая» линия революции (1789–1794 годы) была «временем реализации различных политических проектов, мечтаний и иллюзий, порожденных XVIII веком». Но на шестой год революции оказалось, что две основные модели — конституционная монархия английского образца и республика, которая руководствовалась античными идеалами, — оказались несостоятельными. Поэтому термидорианцы предложили третий путь:
«Они не отказались от демократии, но провозгласили, что право принимать решения имеют только те, кто смог чего-то добиться в обществе и готов поддерживать его стабильность. Не отказались и от Республики, снабдив ее двухпалатным парламентом, как в Англии. Наконец, не отказались от прав человека, оговорив лишь, что готовы защищать не абстрактные „естественные права”, а права человека в обществе, которыми являются не только свобода и равенство, но также безопасность и собственность... К большому разочарованию республиканцев и этот механизм оказался неработоспособным».
Собственно, в этом и заключается ответ авторов книги на вопрос о том, почему спустя десять лет Французская революция пришла к фактическому восстановлению монархии: политическая нестабильность и сомнительная легитимность режима закономерно привели к запросу на «твердую руку» в лице Наполеона. Но это, настаивают авторы, не отменяет заслуг Директории, которая добилась немалых результатов в стабилизации экономики и финансов — успехи Наполеона, конечно же, возникли не на ровном месте. В 1799 году Французская революция завершилась, констатируют авторы и не поддаются искушению растянуть ее на несколько десятилетий вперед, что случалось в мировой историографии не раз и не два.
Как следует из заключительной главы книги, посвященной наследию Французской революции, одним из главных аргументов в пользу такой даты ее окончания можно считать окончательное складывание французской нации и французской национальной идеи, в чем так и не преуспел Старый порядок. Можно лишь добавить еще одну мысль, которую не раз акцентировал в своих работах тот же Манфред: победы Наполеона были во многом обеспечены тем, что основную массу его солдат составляли крестьяне, в ходе революции наконец получившие землю и осознавшие себя полноценными французами. И это — еще один немаловажный аргумент в пользу того, что Французская революция произошла в нужное время и в нужном месте.