По закону степь кругом
Рецензия на книгу «Эксперименты империи: Адат, шариат и производство знаний в Казахской степи»
Паоло Сартори, Павел Шаблей. Эксперименты империи: Адат, шариат и производство знаний в Казахской степи. М.: НЛО, 2019
Права кочевого человека
 Большая страна состоит из множества регионов, которые имеют разный бэкграунд и свои особенности. Если регион еще и иноэтничный и инорелигиозный по отношению к основной части страны, сложности управления им возрастают многократно. Именно таким регионом были Казахские степи. В первой трети XVIII века, при императрице Анне Иоанновне, начался процесс их постепенной и достаточно медленной интеграции в состав России, который завершился во второй половине XIX века. Казахстан был, пожалуй, крупнейшим по территории этническим регионом Российской империи, а впоследствии и Советского Союза.
Большая страна состоит из множества регионов, которые имеют разный бэкграунд и свои особенности. Если регион еще и иноэтничный и инорелигиозный по отношению к основной части страны, сложности управления им возрастают многократно. Именно таким регионом были Казахские степи. В первой трети XVIII века, при императрице Анне Иоанновне, начался процесс их постепенной и достаточно медленной интеграции в состав России, который завершился во второй половине XIX века. Казахстан был, пожалуй, крупнейшим по территории этническим регионом Российской империи, а впоследствии и Советского Союза.
Государственная власть держится на законе — недаром их часто и не разделяют, говоря о связке «государство и право». В каждой стране в идеале допустима только одна система права, одно законодательство, иначе государство не может считаться единым. Однако в Российской империи было не совсем так. Иногда сохранение «особого» законодательства для той или иной территории было условием ее гладкого вхождения и пребывания в составе страны. Касалось это и Казахских степей.
Ситуация здесь была непростой. Казахское население вело в основном кочевой образ жизни, находясь как бы в разных измерениях с оседлым Российским государством. Законодательство России было основано на европейских правовых принципах, тогда как казахское традиционное, обычное право (адат) имело центральноазиатские корни, а религиозное (шариат) — исходило из исламского учения. Таким образом, проблема столкновения и «сотрудничества» сразу нескольких правовых систем здесь была весьма острой. Уже на первом этапе вхождения казахских земель в состав России проявилось недопонимание между сторонами в юридической сфере. Оказалось, что принятие российского подданства казахским Младшим жузом в 1731 г. трактовалось сторонами совершенно по-разному. Для России это было безоговорочным «вхождением» казахских земель в состав страны, а для казахов — свободной и практически ни к чему не обязывающей «ассоциацией», позволявшей им вести независимую политику или даже быть в подданстве у других стран (например, Китая) в зависимости от политической конъюнктуры.
Для решения проблемы права в Казахской степи уполномоченные российские чиновники — и по заданию правительства, и по собственной инициативе — изучали возможности одновременного применения в этом регионе общегосударственного законодательства, традиционного права и права, основанного на религиозном учении. Изучению этой темы посвящена книга, которую написали итальянский и казахстанский историки Паоло Сартори и Павел Шаблей.
Навести порядок
Замысел книги состоит в том, чтобы выявить, почему проблему соотношения адата и шариата в жизни Казахских степей, присоединенных к России, было так трудно решить, какие дискуссии в империи эта проблема порождала и почему так и не удалось претворить в жизнь ни один из проектов кодификации обычного права (не только в Казахской степи, но и в других регионах, таких как Восточная Сибирь и Северный Кавказ).
Выводы авторов о политике России в казахских степях весьма любопытны. В этом регионе многие десятилетия поддерживалось правовое разнообразие. П. Сартори и П. Шаблей выявили, что казахский адат не был достаточно устойчивым и территориально целостным. Он развивался и видоизменялся вместе с обществом и включал в себя и старые представления, и новые веяния, при этом испытывая сильное влияние исламского права.
Российские власти, столкнувшись с достаточно сложной ситуацией, пытались в ней разобраться, чтобы наладить управление и судопроизводство в Казахских степях. Важным этапом реализации этого замысла была кодификация (сбор, обобщение и «приведение в порядок») обычного права, которое, как правило, бытовало в устной форме. Для его применения в рамках российского судопроизводства нужно было удалить из адата «все противное с точки зрения европейской морали и политически нежелательное», после чего чиновники смогли бы использовать подготовленные сборники адата для разбора судебных дел. Это имело бы не только правовой, но и политический смысл — применение «родного» для населения Казахской степи права должно было повысить его доверие к российской власти.
 Процесс кодификации казахского права был долгим. На первом этапе, в конце XVIII — начале XIX вв., российские власти переосмысливали значение сосуществования «обычая» и «закона» в праве, обсуждали вопрос об использовании казахского обычного права в имперском судопроизводстве. В начале 1820-х гг. было принято решение приступить к процессу кодификации адата, который затянулся на десятилетия.
Процесс кодификации казахского права был долгим. На первом этапе, в конце XVIII — начале XIX вв., российские власти переосмысливали значение сосуществования «обычая» и «закона» в праве, обсуждали вопрос об использовании казахского обычного права в имперском судопроизводстве. В начале 1820-х гг. было принято решение приступить к процессу кодификации адата, который затянулся на десятилетия.
Как указывают авторы книги, налицо были большие проблемы в понимании российскими чиновниками условий Казахских степей. Так, они не воспринимали тот факт, что обычное право более эффективно справляется с конфликтами в мелких группах людей, а не в больших. Кроме того, чиновники часто путали адат и шариат, а также объявляли последний «внешним фактором» в духе расхожего мнения о поверхностной исламизации казахов. Кроме того, правительство допустило большую ошибку, пытаясь использовать одни и те же программы для кодификации обычного права в Восточной Сибири и Казахской степи.
Шариат — это временно
Пожалуй, одним из наиболее интересных сюжетов книги является история деятельности российских чиновников и ученых И. Я. Осмоловского и В. В. Григорьева, которые занимались кодификацией казахского обычного права. Осмоловский в 1849–1851 гг. совершил несколько поездок в Казахскую степь. Итогом проделанной им работы стал «Сборник киргизских [т. е. казахских. — Прим. авт.] обычаев, имеющих в орде силу закона».
Назначенный в 1854 году новым главой Оренбургской пограничной комиссии известный востоковед В. В. Григорьев не был противником кодификации казахского обычного права — более того, он считал, что казахам необходимо судопроизводство именно на основании адата. Однако, оценив двойственную основу казахского права (традиционное и религиозное начала) с политической точки зрения, Григорьев воспринял наличие в нем шариата негативно. Он считал, что это нарушает связь казахов со своими «подлинными» обычаями и — самое главное — мешает цивилизаторской миссии России. Григорьев не сомневался, что шариат — это временное явление в казахском праве.
В 1857 году ему было поручено пересмотреть сборник Осмоловского, в итоге чего Григорьев выступил против публикации этих материалов. Он сделал вывод, что сборник противоречит текущим правительственным задачам, так как отражает не «исконно киргизские [т. е. казахские. — Прим. авт.] обычаи», а положения «магометанского шариата».
В 1862 году Григорьев перешел на научную работу в Санкт-Петербург. Однако, хотя и не сумев отредактировать сборник Осмоловского в желательном идеологическом ключе, он не пожелал выпустить его из-под своего контроля. Вероятно, опасаясь, что в его отсутствие новая администрация в Оренбурге может реанимировать идею публикации сборника, Григорьев захватил его в Санкт-Петербург вместе с другими бумагами и хранил вдали от посторонних глаз (здесь авторами описана почти детективная история).
В итоге оказалось, что осуществить кодификацию казахского адата по разным причинам было невозможно. Сведения об обычном праве казахов, собранные чиновниками, часто трактовались ими совершенно произвольно — одни обычаи они приравнивали к преступлению, другие объявляли «дикими». Те обычаи, на которые можно было опереться исходя из прагматических соображений, нередко попадали в категорию «имеющих силу закона». Однако ни один из кодификационных проектов, над которыми работали чиновники, не был признан успешным.
Кроме того, как выявили авторы книги, ни представители колониальной администрации, ни сами казахи не могли провести ясную границу между адатом и шариатом, а если и пытались их разделить, то результат был не самым обнадеживающим.
В последующем в Казахской степи продолжало сохраняться тесное переплетение российского, традиционного и религиозного права. Например, желая выразить недоверие бию (главе рода), который обычно выступал в роли судьи, казахи обращались к русской администрации, в русские суды или шли к кади (мусульманскому судье).
Как отмечают П. Сартори и П. Шаблей, было много причин неудачи с кодификацией права Казахской степи — и пассивное сопротивление этим проектам, и отсутствие должной коммуникации с местным населением, и торопливый, поверхностный характер сбора материалов.
А была ли колонизация — и другие спорные вопросы
Книга наводит также на важные размышления в сфере исторической науки. В ней затрагиваются многие темы — и старые, и новые, — которые сравнительно недавно стали фигурировать в трудах ученых. Эти проблемы либо остаются спорными, либо их необходимо еще много прорабатывать и обсуждать.
Во-первых, это вопрос о «российском колониализме». Авторы книги строят свое исследование на «представлении об истории Казахской степи в колониальном контексте». Такой колониальный подход по отношению к оценке присоединенных к России территорий особенно активно использовался с 1920-х гг., когда в отечественной исторической науке превалировала теория «главного историка-марксиста» М. Н. Покровского, который считал дореволюционную Россию практически «исчадием ада». Известный советский правовед С. Л. Фукс тоже характеризовал период присоединения Казахстана к России как «колониальный». Дискуссия о политике России в Казахской степи обострилась после выхода в 1943 г. книги «История Казахской ССР», в создании которой принимала участие А. М. Панкратова — известный историк и ученица М. Н. Покровского (в период эвакуации она работала в Казахстане). Хотя Панкратова считала, что присоединение Казахстана к России — это «меньшее зло», чем если бы он попал под власть среднеазиатских ханств или Китая, этот труд тогдашнее руководство страны подвергло разгрому, объявив, что это вообще было не «зло» (методология Покровского к этому времени уже была признана властями негодной и вредной).
Тем не менее дискуссии относительно «колониальности» присоединенных к России территорий продолжаются. Как известно, колония — это зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима. Зачастую колониальный режим не предоставляет права граждан населению контролируемой территории, сравнимые с правами граждан метрополии. При этом граждане метрополии пользуются в колониальных территориях большей властью и привилегиями, по сравнению с коренным населением. Подходят ли эти условия для территорий, присоединенных к России? Может быть, стоит говорить о казахских землях как не о колониях, а скорее об «ассоциированных территориях», которые позднее стали управляться на равных условиях со всей территорией Российской империи?
Является ли колонизация, т. е. заселение территории кем-либо (в случае Казахских степей — казаками и затем крестьянами), признаком колониального статуса этой территории? Ведь так же были заселены и Сибирь, и Дальний Восток, которые вряд ли кто-то станет считать «колониями» России. Многие страны были созданы за счет расширения, освоения новых, в том числе иноэтничных, территорий, которые вливались в их состав и становились непосредственной частью страны.
 С темой «колониализма» связан вопрос о «политике русификации», которая упоминается в книге. Очевидно, имеется в виду «политическая русификация», т. е. интеграция новых территорий в состав страны, т. к. нельзя говорить об «этнически» русификационной политике. Во-первых, у правительства России не было ни сил, ни возможностей этнически русифицировать, например, такой огромный регион как Казахстан. Тем более что само кочевое население было фактически «неуловимым» для властей, и это сводило возможности этнокультурного воздействия на него к минимуму, если не к нулю. Во-вторых, интеграцию новых земель российские власти проводили при участии местных жителей с учетом их мнения и пожеланий — так, например, было в Туркестане.
С темой «колониализма» связан вопрос о «политике русификации», которая упоминается в книге. Очевидно, имеется в виду «политическая русификация», т. е. интеграция новых территорий в состав страны, т. к. нельзя говорить об «этнически» русификационной политике. Во-первых, у правительства России не было ни сил, ни возможностей этнически русифицировать, например, такой огромный регион как Казахстан. Тем более что само кочевое население было фактически «неуловимым» для властей, и это сводило возможности этнокультурного воздействия на него к минимуму, если не к нулю. Во-вторых, интеграцию новых земель российские власти проводили при участии местных жителей с учетом их мнения и пожеланий — так, например, было в Туркестане.
Вопросы вызывает приведенное в книге указание на то, что казачья колонизация Казахских степей «включала в себя... убийство мирного населения». Не слишком ли это чрезмерное обобщение? Понятно, что между рядом живущими этническими группами случаются конфликты. Но можно ли говорить об «убийствах» чуть ли не как о характеристике процесса казачьей колонизации? Казахский историк К. Нуров отмечал, что, наоборот, между казаками и казахами не было жесткого антагонизма и поддерживались контакты, в том числе совершались браки. Характерно, что в 1875 г. атаман Н. Г. Казнаков в своем отчете генерал-губернатору Западной Сибири писал, что местные казаки «научились поголовно киргизскому [т. е. казахскому. — Прим. авт.] наречию и переняли некоторые... привычки кочевого народа».
Еще одна проблема, которая затронута в книге, — «ориентализм» — весьма популярная тема на Западе, где ученые с помощью этого термина пытаются объяснить «колониалистское» восприятие «белыми» представителями европейских держав населения, культуры, быта восточных стран. Однако употребление этого термина кажется неоднозначным в условиях России.
В книге приведен текст, написанный И. Я. Осмоловским: «Живя в форте Перовский, так недалеко от Бухары, с которой наше правительство в таких хороших дружественных отношениях, мне было [бы] весьма приятно побывать в Бухаре; к этому меня побуждает вековая слава этого города, высокое образование ее обитателей и такие прекрасные медресе — учебные заведения. Мне, тоже учившемуся на своем веку кой-чему, хотелось бы воспользоваться удобным случаем познакомиться с людьми образованными и учеными, закупить книг, а также запастись и материальными средствами для своего домашнего обихода».
Авторы считают, что этот текст не только «изобилует ориенталистскими вариациями», но и «является разновидностью колониального дискурса, в рамках которого разные способы описания Востока предстают в качестве инструментов контроля, манипулирования или инкорпорирования того, что выступает как явно иной мир». Но разве восторженное мнение о Бухаре, любопытство человека и интерес ученого к ней имеют какое-либо отношение к «колониализму»? Тем более что Осмоловский прямо указывает на независимый статус Бухары как государства, к тому же имеющего дружественные отношения с Россией.
П. Сартори и П. Шаблей пишут, что «ислам представлял угрозу на пути реализации реформ Российской империи в Казахской степи». Однако следовало бы отметить, что в начале процесса интеграции этого региона в состав России ислам весьма приветствовался властями империи. Екатерина II считала, что ислам должен был быть поставлен на службу России. Производился набор лояльных татарских мулл для работы в Казахстане, которые могли усилить лояльность казахов и обеспечить их мирные намерения. Оренбургский военный губернатор О. А. Игельстром добился создания в Уфе муфтията, к ведению которого были отнесены и казахи. Хотя российские власти издавали указы о назначении мулл для казахского населения, в целом они проводили политику невмешательства во внутренние духовные дела мусульман. Доктрина ограниченной веротерпимости была введена только во второй половине XIX в. — но ислам и тогда допускался, хотя власти препятствовали его распространению и укреплению.
Вопросы вызывает и оценка татар в качестве «культурных и политических соперников русских в Казахской степи» (в книге дана ссылка на японского историка К. Мацузато, который назвал татар «одним из „уважаемых врагов”»). Если здесь имеются в виду поволжские татары, то крайне сомнительно, что в XIX веке кто-то в России мог считать их «врагами». Татары уже давно были интегрированы в российское государство. Важнейшим фактом доверия к ним со стороны властей и невосприятия их как врагов было то, что татары подлежали призыву в Русскую армию — наряду с башкирами, они были единственными мусульманскими народами, подлежавшими призыву.
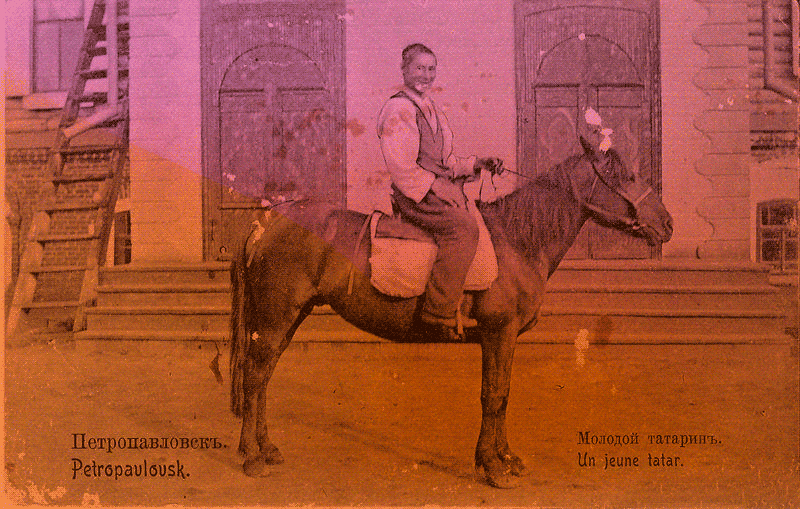 И напротив, авторы пишут, что Российское правительство не ощущало угрозы со стороны узбеков и казахов. Однако в докладе Военного министерства от 1914 г. казахи были признаны «неблагонадежными в политическом отношении». Было отмечено, что интеграция казахских степей в Россию сопровождалась сопротивлением в течение почти ста лет и что мирным этот непокорный народ стал лишь после завоевания Россией в 1860-х и 1870-х гг. среднеазиатских ханств, «когда... стало уже некуда уходить от русской власти». Военные эксперты считали, что «православная вера и русское отечество киргизу [т. е. казаху. — Прим. авт.] чужды, если не враждебны». Такие же выводы были сделаны о каракалпаках, узбеках и таджиках.
И напротив, авторы пишут, что Российское правительство не ощущало угрозы со стороны узбеков и казахов. Однако в докладе Военного министерства от 1914 г. казахи были признаны «неблагонадежными в политическом отношении». Было отмечено, что интеграция казахских степей в Россию сопровождалась сопротивлением в течение почти ста лет и что мирным этот непокорный народ стал лишь после завоевания Россией в 1860-х и 1870-х гг. среднеазиатских ханств, «когда... стало уже некуда уходить от русской власти». Военные эксперты считали, что «православная вера и русское отечество киргизу [т. е. казаху. — Прим. авт.] чужды, если не враждебны». Такие же выводы были сделаны о каракалпаках, узбеках и таджиках.
В книге, к сожалению, уделено мало внимания кочевому образу жизни казахов — как он влиял на их отношения с Российским государством и правом, а также на их собственное право? Кроме того, авторы пишут: «Считая, что казахи — „дети природы”, а политическая организация кочевников не способствовала образованию государства... русские этнографы впадали в соблазны географического детерминизма», т. е. присвоения народу определенных черт характера, основанных на особенностях территории его обитания. Но ведь действительно кочевой образ жизни категорическим образом влиял на политическую, экономическую и социальную жизнь соответствующих народов, в том числе делая проблемным устойчивое существование кочевых государств, о чем много написано в исторических трудах.
Спорным является и утверждение авторов книги, что «переселенческая политика была действенным инструментом в утверждении русского влияния в различных регионах империи». Так было далеко не везде и не всегда. Известно, что в начале процесса переселения (как минимум, в 1860-х гг.) российские власти прямо противодействовали переселенцам, вплоть до выселения их из степей обратно.
Следует также отметить, что авторы в причинах завоевания Россией Центральной Азии не указали на соперничество с Великобританией, которое было одной из главных причин этого процесса, а может быть, и вообще самой главной причиной.
Тем не менее научная полемика с авторами книги только подчеркивает ее ценность, ведь наиболее интересны и важны исследования, которые вызывают вопросы и побуждают к дискуссии. Книга может быть полезна широкому кругу читателей, которые интересуются историей России, Казахстана и других сопредельных стран, вопросами религии, права и народных обычаев.
На злобу дня
Книга важна и интересна также тем, что проблема соприкосновения и взаимного существования светского и религиозного законодательства актуальна и сейчас. С конца 1980-х в России возросла значимость религиозного фактора, вследствие чего в ряде регионов ведутся разговоры и даже предпринимаются реальные шаги по использованию норм шариата — например, в сфере регулирования имущества религиозных учреждений, исламского банковского дела, наследственных и брачно-семейных отношений (характерно, что в ряде традиционно исламских стран шариат и применяется в основном в семейном праве — например, в Алжире, Индонезии, Малайзии и Марокко). Отечественные исследователи отмечают, что в России при региональных муфтиятах уже действуют некоторые аналоги шариатских судов, и образованные в исламе люди могут неформально решать по шариату интересующие их вопросы и урегулировать конфликты.
Актуальным остается и вопрос о применении адата. Так, в Конституции Республики Ингушетии указано, что жители региона «имеют право на вступление в брак и построение семейных отношений на основе национальных традиций и обычаев». В ряде штатов Малайзии в шариатских судах учитываются некоторые предписания адата (однако это недопустимо в других штатах). Таким образом, вопрос о взаимодействии светского, религиозного и обычного права в современном мире далеко не закрыт и подлежит дальнейшему изучению и обсуждению. Книга, которой посвящена эта рецензия, может внести большой вклад в такое обсуждение.