Письма от никого к никому
Анатолий Рясов о книге Гюнтера Андерса «Катакомбы Молюссии»
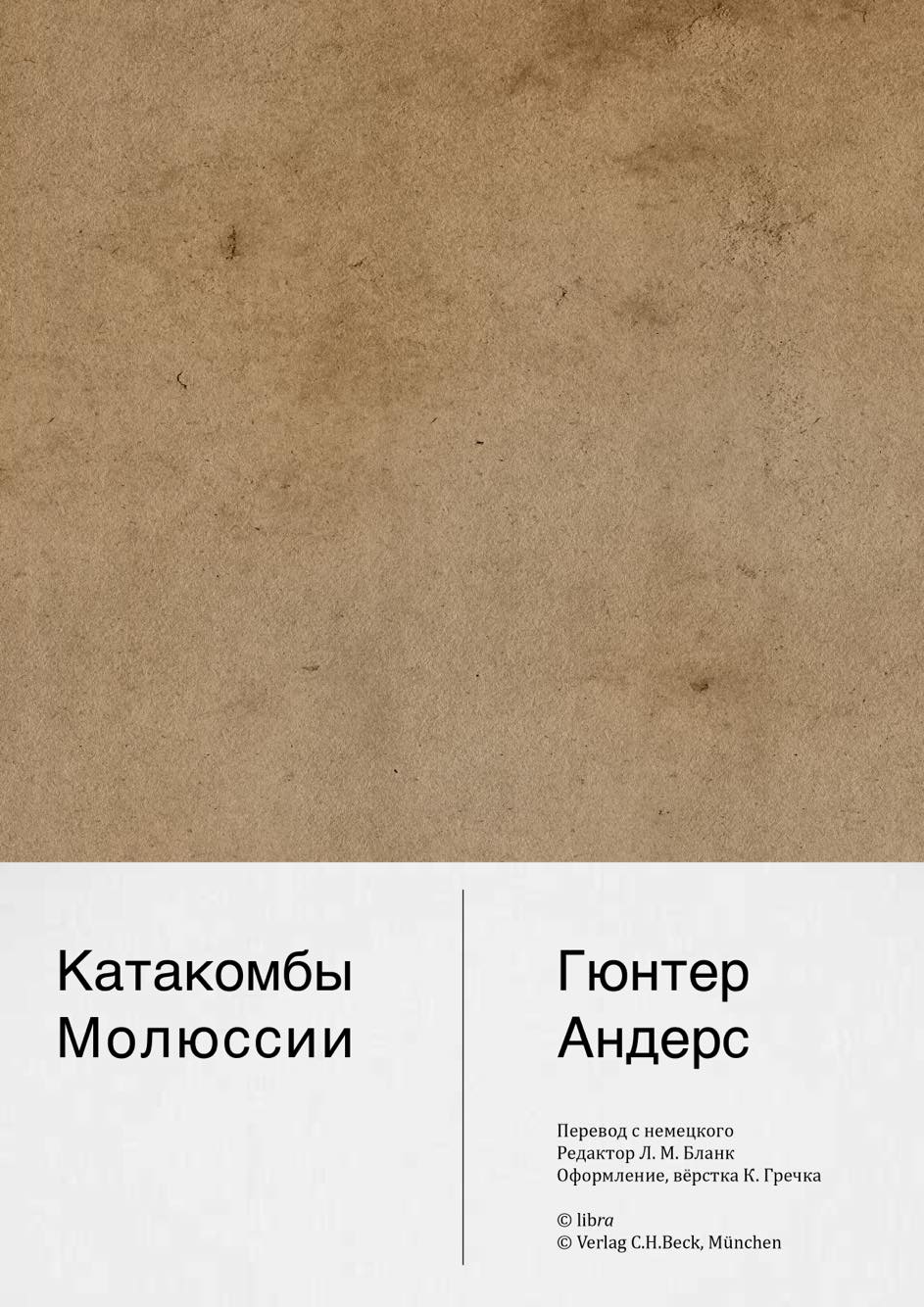 Гюнтер Андерс. Катакомбы Молюссии. М.: Libra, 2019.
Гюнтер Андерс. Катакомбы Молюссии. М.: Libra, 2019.
«Как еврей, он не был полностью своим в христианском мире. Как индифферентный еврей, — а таким он поначалу был, — он не был полностью своим среди евреев. Как немецкоязычный, не был полностью своим среди чехов. Как немецкоязычный еврей, не был полностью своим среди богемских немцев. Как богемец, не был полностью австрийцем. Как служащий по страхованию рабочих, не полностью принадлежал к буржуазии. Как бюргерский сын, не полностью относился к рабочим. Но и в канцелярии он не был целиком, ибо чувствовал себя писателем. Но и писателем он не был, ибо отдавал все силы семье». Эта цитата из книги Гюнтера Андерса о Кафке долгое время оставалась едва ли не единственным абзацем, обозначившим пределы его известности в России. Хотя его имя изредка упоминалось в связи с послевоенными эссе, автор так и остался непрочитанным.
Ученик Гуссерля и Хайдеггера, двоюродный брат Беньямина, первый муж Арендт — знаменитые философы словно заслонили его своими слишком длинными тенями. Об Андерсе сложно начать разговор и потому, что не удается найти точку отсчета. Феноменолог, ставший политическим философом, одновременно на протяжении многих лет писал стихи, прозу и искусствоведческие статьи, героями которых становились Брехт, Деблин, Роден. Стоит упомянуть и многочисленные работы по философии техники, включая статьи о звуке — например, в работе «Акустический стереоскоп» Андерс задолго до возникновения sound studies размышлял об особенностях многоканальной звукозаписи. Но настоящую известность ему принесли активное участие в антиядерном движении и работы о Хиросиме и Освенциме. Хотя фамилия Андерс была псевдонимом, настоящая (Штерн) нередко стояла в скобках, сопровождая его многочисленные публикации. В каком-то смысле вышеприведенный абзац о Кафке вполне можно трансформировать в замечание о самом Андерсе.
Впрочем, его работы способны привлечь как раз тем, что их не получится быстро сложить в ясное целое. Внезапно в переводе на русский появляется целая книга Андерса, и при этом вовсе не самая известная и часто цитируемая работа «Устарелость человека», а единственный его роман, почти потерянный в 1930-е годы и изданный только после смерти автора. Однако «Катакомбы Молюссии» — вполне подходящий повод для знакомства с Гюнтером Андерсом.
Герои романа — заключенные, рассказывающие друг другу о политической истории Молюссии, передающие от старшего к младшему устную книгу о бунте против режима, превратившего их в узников. «И хотя здесь внизу ты только получеловек, это хорошо. Ты прокладываешь путь. Те, ради кого мы работаем, когда-нибудь будут выглядеть иначе, чем ты и я. Мы пионеры, ослепшие от пыли и оглохшие от простукивания камней. Мы умрем в пути. Они же достигнут цели, они будут видеть и слышать, они станут цельными». Последнее, что у них остается, — это слова, передаваемые из уст в уста со впечатляющим упорством. Вся книга состоит из этих нескончаемых диалогов, складывающихся в революционный эпос.
 Гюнтер Андерс
Гюнтер Андерс
Обычно этот роман интерпретируют как антиутопию, весьма точно описавшую нацистское государство еще до его появления. Количество предсказаний действительно впечатляет: новая мировая война, всевластие фюрера, многочисленные концлагеря и даже движение Сопротивления. Однако едва ли политические аспекты этой книги можно свести к разбору так называемых тоталитарных режимов. Столь же уничижительной критике здесь подвергается институт выборов: если программы соперничающих партий мало отличаются друг от друга, то почему политики так одержимы духом противодействия? Сегодня особенно очевидно, что оппозиция «друг/враг», когда-то предложенная Карлом Шмиттом, так и осталась главнейшим критерием в области политического. Этот вопрос будет конкретизирован Андерсом после Второй мировой войны: почему главной дилеммой человечества стал выбор между Освенцимом и Хиросимой? Философский путь Андерса во многом стал освобождением от влияния Хайдеггера, однако некоторые фрагменты из его послевоенных статей по философии техники почти дословно совпадают с мыслями фрайбургского учителя, в том числе с самыми скандальными пассажами: «по умению убивать, громоздить горы трупов мы уже вступили в гордый век массового, промышленного производства».
Одной из главнейших тем книги становится идеология. Политический миф Молюссии делает главную ставку на грядущие времена, но перед нами «устаревшее будущее, запланированное позавчера». Может быть, больше всего заключенные ненавидят мертвый язык власти, а их рассказы — это попытка продления жизни слов. Назло официальной историографии, они борются за право запомнить собственную историю. Но с каждым новым словом становится ясно, что они не вспоминают историю, а пишут ее заново, пытаясь убедить себя, что, несмотря на ретуширование правды, новый сюжет сохраняет воспоминание о возможности ее существования. Иначе говоря, правда может передаваться от поколения к поколению только в виде мифа, только как новая идеология: «Мы нуждаемся в незнающих. И если они слушают только обманные речи, потому что они — незнающие, значит, и мы должны их обманывать». В какой-то момент становится очевидным, что герои заняты именно тем, в чем они обвиняли режим. Они тоже состаривают будущее, просто несколько иным методом.
Впрочем, читатель так и не сможет понять, что перед ним — разговоры заключенных или их версия, подслушанная и скорректированная надзирателем. Порой диалоги этих героев, давно исказивших собственные идеалы, но при этом готовых умереть за них и демонстрирующих в этой готовности невероятную силу, кажутся сошедшими со страниц Антуана Володина — как если бы он начал писать постэкзотические романы за двадцать лет до своего рождения. А состояние обитателей катакомб весьма напоминает еще одну версию буддийского Бардо: «не смерть и не продолжение жизни, а какое-то недопустимое промежуточное использование». Герои Андерса подвешены между небытием и мифом.
Однако мир катакомб отнюдь не сводится к жонглированию идеологическими слоганами. Эти вышептываемые из темноты истории, песни и стихи пронизаны онтологическими смыслами. Образ заключенного, бесцельно транслирующего в пустоту рассказы (или внимающего раздающимся из темноты чужим словам), может быть спроецирован на любого человека. И если истории будут неверно интерпретированы — не беда: люди всегда неправильно понимают друг друга. Через четверть века после завершения «Катакомб Молюссии» Андерс напишет в своем тексте о Беккете: «если время и присутствует здесь, то только благодаря тому, что еще не умерла привычка убивать время». Так или иначе, подлинный смысл этих бесконечных историй — не коммуникация, а что-то совсем иное.
Пожалуй, самой иллюстративной историей «Катакомб Молюссии» можно назвать сюжет о сыне, ушедшем в далекое плавание и исправно присылавшем матери письма. Когда сын погиб, капитан пожалел его старую мать и продолжил отправлять письма за сына. Увы, он не знал, что мать матроса уже умерла. «И каждый месяц посылал письмо от давно умершего к мертвой. Сообщения шли от никого к никому». Книга Андерса похожа на эти письма.