Певец космоса: как Генрих Фридеман защищал Платона от современных софистов
Об одном давнем споре ницшеанца с неокантианцами
Сто лет назад в Германии споры об античной философии велись далеко не только в академических кругах с сугубо теоретическими целями. Под влиянием Ницше в идеях далекого прошлого многие искали и находили ключевые ценности европейской культуры, чтобы с их помощью пересоздать основания современного существования — как индивидуального, так и общественно-космического. Именно к числу подобных работ принадлежит книга Генриха Фридемана «Платон. Его гештальт», недавно вышедшая в русском переводе. Подробнее о ней — в материале Николая Родосского.
Генрих Фридеман. Платон. Его гештальт. СПб.: Владимир Даль, 2020. Перевод с немецкого Д. В. Кузницына. Содержание
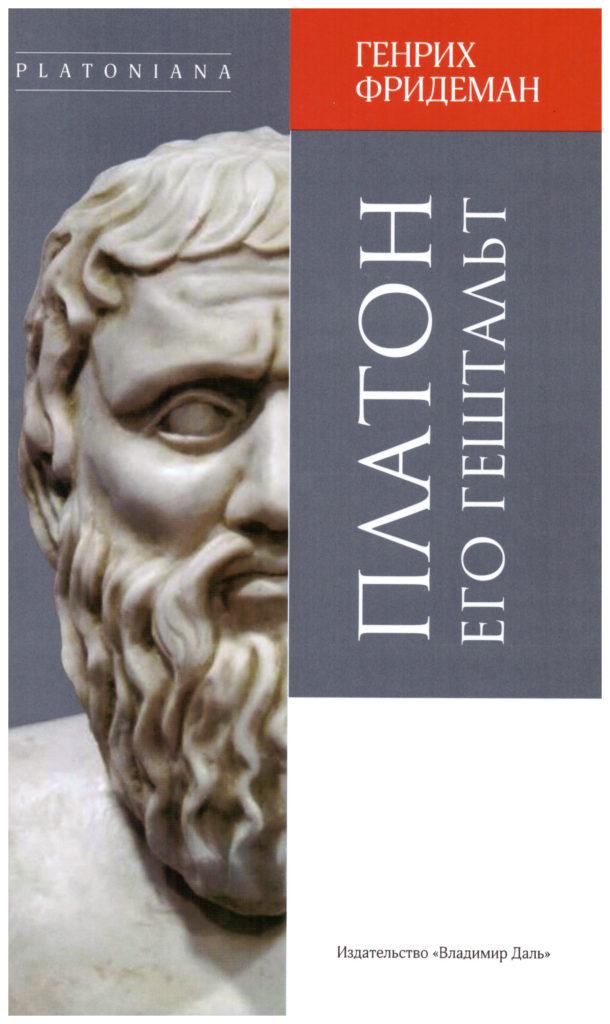 Генриху Фридеману было 26 лет, когда он погиб в зимних боях 1915 года на Восточном фронте. «Ребенок-птица», — так назвал Генриха в стихотворной эпитафии поэт Стефан Георге, его близкий друг и учитель, получив известие о гибели Фридемана. Можно не сомневаться, что на смерть Генрих шел без всякого страха. И дело не только в том, что в круг Георге трус никогда бы не попал. Вспомним, что туда входил, например, Клаус фон Штауффенберг — блестящий офицер вермахта, а затем ключевой участник июльского заговора против Гитлера. Дело в другом — в чувстве исполненного предназначения. Фридеман был уверен, что опубликованная им за несколько месяцев до рокового дня книга «Платон. Его гештальт» станет одним из главных текстов начала ХХ века о самом духе греческой философии.
Генриху Фридеману было 26 лет, когда он погиб в зимних боях 1915 года на Восточном фронте. «Ребенок-птица», — так назвал Генриха в стихотворной эпитафии поэт Стефан Георге, его близкий друг и учитель, получив известие о гибели Фридемана. Можно не сомневаться, что на смерть Генрих шел без всякого страха. И дело не только в том, что в круг Георге трус никогда бы не попал. Вспомним, что туда входил, например, Клаус фон Штауффенберг — блестящий офицер вермахта, а затем ключевой участник июльского заговора против Гитлера. Дело в другом — в чувстве исполненного предназначения. Фридеман был уверен, что опубликованная им за несколько месяцев до рокового дня книга «Платон. Его гештальт» станет одним из главных текстов начала ХХ века о самом духе греческой философии.
Интеллектуальный климат эпохи, в которую жил Фридеман, определяло неокантианство. Сам Генрих учился в Марбурге — цитадели неокантианской философии, а книга «Платон. Его гештальт» выросла из габилитационной работы, которую он писал у Пауля Наторпа, одного из столпов марбургской школы. Неокантианцы зацвели в благополучной атмосфере, наступившей в Германии после победоносной франко-прусской войны и промышленного рывка второй половины XIX столетия. Комфортная среда рубежа веков благоприятствовала философскому либерализму, основанному на строгой логической рациональности и воспевающему правовое государство и индивидуальные свободы. Неокантианцы верили, что вечный мир, о котором писал великий кёнигсбержец, вот-вот наступит.
Но не все были рады вечному миру. И речь здесь не только о германской военной верхушке и сербских террористах. Кантовская утопия, в целом напоминающая «протестантский прибранный рай», казалась слишком пресной тому влиятельному слою германских интеллектуалов, главной духовной пищей которых была философия Ницше. И в воображаемой кантовской федерации свободных государств, и в современной кайзеровской империи этим господам отчаянно недоставало дионисийской удали, живительной интенсивности плоти и героизма. Одним из центров этого интеллектуального движения стал круг Стефана Георге, причем сам поэт почитался в нем как воплощение живого бога. Участники круга пытались прорваться к подлинному ядру бытия, устраивая костюмированные фестивали, издавая поэтические альманахи, пускаясь в эротические эксперименты, а также изучая германские и греческие древности.
Платон, наряду с Шекспиром, Гёльдерлином, Ницше и некоторыми другими «духовными вождями», был для поклонников Георге священной фигурой. И как и любую святыню, Платона надо было защищать от нападок богохульников, в первую очередь от неокантианцев, которые в своей интерпретации диалогов делали акцент на диалектике, категориях и мыслительных схемах. Платон для них — рационалист, предшественник Аристотеля, один из создателей логики как научной методологии и чуть ли не «кантианец до Канта», как когда-то он был для отцов церкви «христианином до Христа». Прекрасное само по себе, идея Блага, arete как высшая платоновская добродетель, — все это неокантианцы либо рассматривали исключительно как метафоры, либо объясняли сократической иронией и «под ее предлогом загоняли еще глубже во тьму непонятного». Во многом именно необходимостью в «апологии Платона» перед лицом неокантианской «клеветы» и была вызвана к жизни книга Фридемана, взявшего на себя роль адвоката божества.
Рационалистическому Платону, который философствует с помощью анализа и категорий, Фридеман противопоставляет образ пророка, носителя идеи объединяющего эроса и божественного законодателя. Понимание эроса здесь резко расходится с распространенным мифом о «платонической любви»: эрос — в первую очередь вакхическое неистовство, безумие, клокотание темных, берущих начало из хаоса вожделений, непрестанно клонящихся при этом в сторону света. Но этим вожделениям, обеспечивающим человеку жизненную силу, нужна строгая, но не произвольно задаваемая узда, peras-предел. Речь идет о сопряжении с помощью эроса первозданного хаоса с божественным законом. Платон — провозвестник всеединства, его дар, благодаря которому он стоит выше Сократа, — это «способность охватить весь мир, сопрячь человека с космосом и основать новое царство». Поэтому неокантианской функционализации платоновской философии, ее разложению на частные науки по новоевропейской модели Фридеман противился изо всех сил. Платон не может быть этиком, эстетиком или диалектиком, он — певец космоса и человека как его целокупного отражения.
«В то время как современный эстетик сожалеет, что Платон, „несмотря на неплохое начало”, не смог дать характеристику эстетического бытия, хотя в своих собственных сочинениях узурпирует эрос как „чистый эстетический метод”, а логик, в свою очередь, хотел бы видеть в эросе только логико-диалектическую склонность, мы благодарим нашего духовного вождя за то, что человеческой целостности он придавал еще больше веса, чем его трехчастному делению, и что эрос объемлет это целое не только в его объеме, но и в его строении, — этот космический поток, который, обежав весь мир, катит свои последние, напитанные влагами всего мира волны через душу человека и все его поступки, от поцелуя до внятного слова, делает подлинными детьми космоса».
Платон, как и его учитель Сократ, пришел в мир, истощенный индивидуализмом, которому учили софисты, и аскезой, берущей начало от концепций орфиков и пифагорейцев. Софисты, проповедуя принцип «человек есть мера всех вещей», способствовали, как считает Фридеман, дроблению гражданского организма и общей деградации человеческой природы. Человек, в своей частной индивидуальности пытающийся укоренить личный нравственный или интеллектуальный закон, непременно станет жертвой собственных страстей, которые сильнее его, и придет к опустошенности. В одиночку пересилить страсти не дано даже сильнейшим из нас — примером тому служит полководец Алкивиад, сгоревший в пламени своей гордыни, растерявший все ориентиры и носящийся теперь по Греции «подобно метеору, лишь временами воспламеняясь, когда его коснется сопротивление чуждой атмосферы». Параллельно развивавшееся движение орфиков и пифагорейцев пыталось защититься от страстей, отказывая плоти в субстанциальности и в ее законных правах, что в итоге так же приводило к духовному и физическому истощению.
Платоновская концепция человека, по Фридеману, отличается как от орфической (и впоследствии христианской), так и от софистической. Автор книги «Платон. Его гештальт» видел свою задачу в том, чтобы описать такую структуру души, которая восстановила бы телесность «в подлинно греческом духе», преданную забвению вследствие распространения ложных учений. Греческая телесность — это «зримое явление духовной бесконечности». Тело может быть недостойно души не потому, что оно греховно, а из-за недостаточно развитой познавательной способности, когда мышление не может угнаться «за конями души». Речь тут идет не об извечной ущербности тела в отношении души, а о недостаточном развитии связи между ними. Созданию и удержанию этой внутренней гармонии, которую восхищавшийся Спартой Платон называет в «Лахете» «дорийской», а не разработке абстрактных теорий и логических категорий подчинена, по словам Фридемана, вся платоновская философия.
«Сохранить эту соразмерность и выразить ее в своем произведении — вот в чем состоит задача дорической жизни, в которой тело формируется душой, а душа вскармливается телом, до тех пор, пока ты не начнешь узнавать свободного человека по тому, как он перебрасывает через плечо свой плащ».
Для того чтобы упорядочить человеческое бытие, чтобы дать человеку свободу как от страстей, так и от пустых философских теорий, надо показать ему, что по своей сути он подобен космосу, работающему по точным вековечным законам, нарушить которые не в силах даже бог. Но изучать космос надлежит не по учебникам и чертежам, которые дадут только пустые образы, «гипотетические идеи», как скажет Фридеман, но через общение с учителем, уже ставшим носителем космического закона в себе. Этот учитель, или герой, который выступает воплощенным космическим законом (буквально воплощенным — то есть явленным в плотском теле), и есть восприемник гештальта — пластической формы идеи. Общение между учениками и учителем разворачивается по законам эроса. Именно эрос со всем своим плотским измерением выступает подлинным законом устроения и космоса, и полиса, и антропоса. И платоновский диалог оказывается самой подходящей формой эротического общения, в котором зримо и осязаемо проступает бог — носитель космической меры.
«Только диалог, возникший из божественного источника и напитанный божественной кровью, мог стать подобающей формой для Платоновых мифов, и — счастливое стечение обстоятельств! — во всегда живой и не теряющей актуальности ткани слов и жестов вечно обновляющееся бытие мифической реальности достигает предельной чувственной осязаемости... Значение Агафоновой речи [из диалога „Пир” — Н. Р.] и ее подлинную необходимость нам хотелось бы видеть в том, что ее пламенным словам удается непосредственно, фактически и во плоти вовлечь бога в круг пирующих... Она звучит как пламенный призыв, адресованный богу, который... теперь присутствует среди пирующих сам, во плоти, ибо его тела требует закон греческой телесности».
Диалог формируется вокруг учителя, духовного вождя, почитание которого сродни религиозному. Герой вливает в души собравшихся вокруг него учеников божественный эрос, таким образом оформляя их в соответствии с космическим законом. Однако ключевая миссия героя, как это не раз объясняли нам историки религий, — умереть. Именно смерть учителя запускает разрастание закрытого сообщества учеников в настоящее политическое образование.
«Когда плоть богоносца уже невозможно осязать руками и слово его уже не летит напрямую от уст к ушам, когда облик, еще недавно любимый из самой интимной близи, теперь, после смерти, оказывается вдруг отделен бесконечностью... — тогда зияние покинутого в смерти трона заставляет нас в глубокой тоске желать возвращения учителя, тогда те, кто в пору его присутствия оставались еще разобщены и чужды друг другу в силу своих разделенных Я или каких-то других барьеров, падают друг другу на грудь, потому что одна и та же нужда... сплавляет вместе Я и Ты и сплачивает участников служения в единую общность, в чьем общем кругу, сколь бы ограниченными ни были силы отдельных ее членов, вновь возникает и удерживается живое присутствие господина... Поэтому, хотя Сократ и был основателем нового царства, но только его смерть дала власть ученику-провозвестнику, посвятила его в учредители культа. А только с возникновением культа возникает и царство».
Отсюда легко вывести взгляды Фридемана на государство. Во главе сообщества стоит фигура героя, а само оно походит скорее на рыцарский орден (в одном месте автор восторгается тамплиерами), чем на правовое государство. Восхищаясь мистической таинственностью, сопровождающей Георге — героя его времени, Фридеман отвергал, как старческую болезнь, секулярный взгляд на общество, расколдовывание и «саморасшифровку, предшествующую концу всякой культуры». Он наблюдал, как в условиях авторитарного культа Георге расцветают лучшие философы и поэты своего поколения, и через это «познал необходимость величия и власти» в противовес личностной автономии и гражданскому равенству, которое есть «вещь выдуманная, а не положенная природой». По Фридеману, задача стражей — платоновской аристократии, приближенной к герою, — удерживать созданное героем царство и «охватить его колебательными движениями общего духовного ритма», в то время как участь народа сводится к тому, чтобы «сохранять субстанциальный покой на данной ему от рождения почве, не отрываясь от нее ради искусств, лежащих за пределами его цеховых умений, и находить удовлетворение не в широте и многообразии своих способностей, а в сосредоточении и простоте».
Очевидно, что Фридеман написал одновременно и про платоновскую Грецию, и про современную ему Европу, причем написал так, что эти два уровня сливаются в один. Нигде открыто не проводя параллелей, он подспудно, незаметно для читателя, убеждает: Германия не просто похожа, она и есть Афины; Георге — это и есть Сократ (или Агафон); неокантианцы — это и есть софисты. Как будто автор взял одну рамку и наложил ее сразу на оба изображения. Рамка — это, собственно, и есть гештальт. А кто тогда Платон? Платон, как и в «Диалогах», всегда за рамкой. Он — тот, кто задает рамку. Конечной задачей философа (как Платона, так и Фридемана) является «пластическое формирование народа», а обретение рамки, гештальта, «сокровенного образа», — непременное условие ее выполнения.
С момента издания книги Фридемана на немецком прошло больше ста лет. Что если попробовать наложить рамку Платона/Фридемана на нашу современность? Кажется, что в XXI веке исследователи уже не стремятся свести образ Платона (или его гештальт?) к картонному жупелу — врагу открытого общества и отцу всякого тоталитаризма. Усилия Поппера и Рассела в этом направлении сегодня выглядят плодами своего времени, не заслуживающими слишком серьезного отношения к себе — подобно интерпретации Лимоновым Пушкина как «поэта для календарей». Но если мы сегодня попробуем помыслить Платона таким, каким видит его Фридеман, мы увидим, насколько резко он контрастирует с текущей интеллектуальной повесткой. Рубеж десятых и двадцатых годов ознаменовался новой волной движения за гражданские права, расцветом концепции интерсекционности, всплеском интереса к аутофикционной прозе с ее акцентом на терапевтическом значении литературы. Идеи разнообразия подсказывают нам: ты такой, каким ты себя воспринимаешь, и если ты что-то ощущаешь, значит, так оно и есть, — не позволяй другим усомниться в реальности своих чувств. Сложно представить установку, с которой Платон был бы менее согласен. Он увидел бы в нашем обществе софистическую утопию, где каждому, «даже самому ничтожному из людей», дано «право считать себя мерой для себя самого и для других». Мы предполагаем, что Платон (во всяком случае Платон Фридемана), живи он среди нас, мог бы выразиться в таком духе: разрешить каждому жить в соответствии с его мерой — все равно что посадить всех на электросамокаты. То, что в теории звучит круто и прогрессивно, на деле оборачивается еженедельными сообщениями о ДТП.
Нужно ли сегодня такое прочтение Платона, в котором он, как кажется, предстает бесконечно далеким от наших нынешних установок? Безусловно да! И дело здесь не в этике. Книги, подобные работе Фридемана, дают нам ницшеанский взгляд на греков, от которого мы успели порядком отвыкнуть. Фридеман показывает, что не все греческие философы скроены по мерке стоиков, чей овеянный материалистичной и утилитаристской аурой образ явно перенасытил современную культуру. «Платон. Его гештальт» — это альтернатива штампующимся переводным книгам с названиями в стиле «Живи как Марк Аврелий», содержание которых можно порой свести к советам вроде «не принимай важных решений сгоряча». Фридеман напоминает, что греки — это не только лайф-коучи и бизнес-тренеры, это еще и донимаемые страстями вакхические безумцы, которые из чего угодно сделают религиозный пластический культ. Ведь в этом как раз и состоит их греческая природа.