«Песню вылепляют ртом»
Лев Оборин — о четырех поэтических новинках июля
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Александр Беляков. В стране стоячего солнца: Стихотворения 2019–2023 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2024
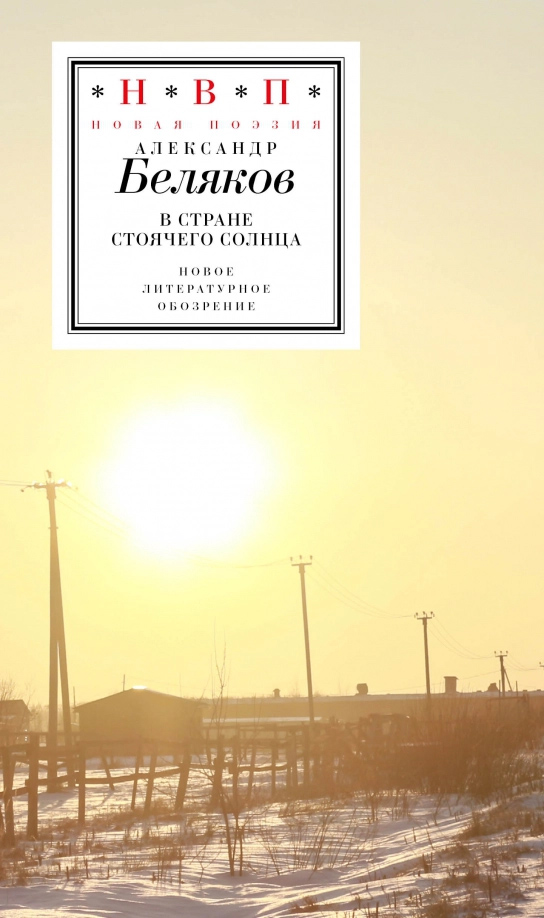 Во всяком сборнике хорошего поэта есть вещи более или менее удачные, но не всегда легко определить, за счет чего одно стихотворение выигрывает, а другое проигрывает. В новой книге Александра Белякова — мастера формальной просодии и звуковой плотности — это определить как раз получается: дело в блеске игры созвучиями в рамках строгой силлабо-тоники; игры, которую Беляков отработал за много лет.
Во всяком сборнике хорошего поэта есть вещи более или менее удачные, но не всегда легко определить, за счет чего одно стихотворение выигрывает, а другое проигрывает. В новой книге Александра Белякова — мастера формальной просодии и звуковой плотности — это определить как раз получается: дело в блеске игры созвучиями в рамках строгой силлабо-тоники; игры, которую Беляков отработал за много лет.
Мне уже приходилось писать о том, что стихи Белякова схожи с поэзией Алексея Цветкова и Михаила Айзенберга: с первым Белякова роднят синтаксис и отсутствие пунктуации (хотя в рифме Беляков почти не допускает ассонансов); со вторым — умение создавать сюжет как бы из воздуха, из толкотни речи, из того стихотворного гула, который когда-то описывал Маяковский (да и Пушкин: «Ведь рифмы запросто со мной живут; / Две придут сами, третью приведут»). Иногда это приводит Белякова к почти буквальным совпадениям с Айзенбергом: сравним «снег настал как парадиз / белый верх прокрался вниз» с айзенберговским «Поглядите, как бросается / белый низ на черный верх». В книге «В стране стоячего солнца», в ее начале и конце, есть два описания собственного поэтического метода — одно описание автора скорее рекламирует, другое скорее разоблачает. Первое — приведенное Данилой Давыдовым сообщение Белякова из опроса журнала «Воздух»: «Какие-то фразы, созвучия, строки — чаще поодиночке, реже попарно — возникают в голове ежедневно и не по одному разу. Я бы сказал, с физиологической регулярностью. Иногда как реакция на увиденное, услышанное, прочитанное, а порой как будто сами по себе. <...> Собранные вместе, бок о бок, на одной или нескольких страницах, эти осколки, зерна, зародыши создают энергетическое поле, в котором и возникает стихотворение». Второе — стихотворение 2023 года:
если повод нарочит
значит стих еще не начат
пусть сначала зазвучит
а потом уже означит
песню вылепляют ртом
чтоб она в ушах повисла
смысл проявится потом
впрочем можно и без смысла
Без смысла, разумеется, можно, но стихи Белякова далеки от, так сказать, высокой глоссолалии, рассемантизирующего камлания, которого было много в русской поэзии последних десятилетий. Автоматизм здесь опасен скорее некоей поэтической фейерабендовщиной: все полезно, что в строку полезло; например, вот развитие мотивов чеховской «Чайки» и мема, который сам Чехов создавал в порядке пародии на претенциозное декадентство:
Люди, львы, орлы и куропатки
Уложили Нину на лопатки.
На меланхолическую пати
Уплывает Нина на лопате.
Одинокой будет вечеринка.
Ты — не чайка, Нина. Ты — чаинка
Из Непала или из Китая,
Испитая, спетая, спитая.
Ну то есть — хорошо, и? При этом, по счастью, на одно такое вызывающее недоумение стихотворение у Белякова приходятся десять сильных, не оставляющих сомнения в его мастерстве:
который год
воздушный чёрт
мое лицо лишает черт
подземный ангел с ним воюет
один сотрет
другой малюет
а иногда наоборот
чёрт чиркнет
ангелок сотрет
в их поединке заводном
я стал неплотным полотном
Если уж говорить про неплотное полотно, то Беляков постоянно испытывает силлабо-тонику на разрыв — или на изгиб; изгиб этот временами обнаруживает свою искусственность, напоминая, что мастерские вещи тоже могут делаться с усилием: «он заплутал в кино сыром / и уходя ко сну / немой бездонный монохром / приемлет как весну», «карму отрабатывай / на ничейном стой / чтобы вечер матовый / сбылся кодой патовой / звонкой пустотой» (вообще повелительное наклонение в силлабо-тонике — частый признак искусственности). Тут же рядом — более вольные воды пентаметра, белого стиха, где и дышится свободнее: «все что ты знаешь и помнишь о собственной жизни / ведомо горстке вещиц в ойкумене настольной / их совещанию надобен лишь наблюдатель / чтобы и здесь он увидел свое отраженье».
Отрываясь от сюжетов отдельных стихотворений, можно сказать, что сюжет всей книги, написанной в тяжелые последние годы, — именно лоцманское маневрирование между сциллой автоматизма и харибдой формальной конторсии. Соответственно, особое удовольствие здесь вызывают стихи, в которых этот искусный (а не искусственный!) поворот руля виден. Вот пример — стихотворение, в котором Беляков обыгрывает несколько идиом, создавая из этого обыгрывания сюжет, обращение к «мешку», в котором вполне можно угадать «человека» — по ассоциации с «бренной оболочкой»:
мешок
где твое шило?
не с мылом ли согрешило?
котом ли оборотилось?
и сколько солдат им брилось?
в пыльной твоей могиле
как его утаили?
При этом мотивы войны и болезни, без которых вынужденно не обходилась поэзия в 2020–2024 годах, тут составляют пунктирный мотив, своего рода тонус лирической тревоги. В начале книги встречаем пророческий текст: «на углу победы и свободы / в немудреном русском сериале / мы вошли в одни и те же воды / мы тонули / а они стояли // на углу реальности и бреда / в омуте ночного кислорода / за плечами корчилась победа / впереди мерещилась свобода». Стихи 2022-го показывают, что это за корчи и наваждения:
что за обрубки тут
мимо тебя плывут?
это не труп врага —
порознь рука нога
тулово голова
адские острова
ровно в такой же ряд
всякий напев разъят
словно глухой дебил
музыку победил
Так что нынешняя работа Белякова, при всех возможных к ней критических придирках, — еще и противодействие тому положению, тому ощущению, которое описано в этом стихотворении и въелось многим из нас под кожу.
Инна Краснопер. Дорогой человек. М.: Новое литературное обозрение, 2024
 Стихи Инны Краснопер — один из самых ярких в последнее время примеров звуковой и игровой поэзии. Никита Сунгатов в своем предисловии к книге связывает ее манеру не только с танцем, который профессионально интересует поэтессу, но и с апологетически понятой несерьезностью, «глуповатостью» в ключе известной пушкинской максимы. При этом Сунгатов ссылается на довольно вздорную, на мой взгляд, статью Георга Витте, обвиняющую Марию Степанову в имперской напыщенной архаизации — тут стоит заметить, что Степанова была соиздательницей предыдущей книги Краснопер, а в свежем номере журнала «Воздух» стихи этих двух поэтесс стоят во вполне уместном соседстве. Но это так, реплика в сторону. Если тут и есть антиимперский посыл, то он — в бесконечном дроблении слов и смыслов, в вариативности, в анализе (то есть разъятии) как инструменте сомнения — и да, такие серьезные операции могут одновременно быть игрой. Стихи Краснопер — это торжество паронимии, пародийно-хайдеггерианского отделения приставок от корней, смыслового трения: «до водим до вашего сведения / до свидос / до брой ночи / до вольно большие ступени / до водят вас до выхода из / пред ложенного / до бро порядочного / порочно пружинистого / так та». В опытах по синтезированию новых химических элементов на выходе обычно получаются только осколки ядер — у Краснопер, сталкивающей слова, выходит что-то похожее.
Стихи Инны Краснопер — один из самых ярких в последнее время примеров звуковой и игровой поэзии. Никита Сунгатов в своем предисловии к книге связывает ее манеру не только с танцем, который профессионально интересует поэтессу, но и с апологетически понятой несерьезностью, «глуповатостью» в ключе известной пушкинской максимы. При этом Сунгатов ссылается на довольно вздорную, на мой взгляд, статью Георга Витте, обвиняющую Марию Степанову в имперской напыщенной архаизации — тут стоит заметить, что Степанова была соиздательницей предыдущей книги Краснопер, а в свежем номере журнала «Воздух» стихи этих двух поэтесс стоят во вполне уместном соседстве. Но это так, реплика в сторону. Если тут и есть антиимперский посыл, то он — в бесконечном дроблении слов и смыслов, в вариативности, в анализе (то есть разъятии) как инструменте сомнения — и да, такие серьезные операции могут одновременно быть игрой. Стихи Краснопер — это торжество паронимии, пародийно-хайдеггерианского отделения приставок от корней, смыслового трения: «до водим до вашего сведения / до свидос / до брой ночи / до вольно большие ступени / до водят вас до выхода из / пред ложенного / до бро порядочного / порочно пружинистого / так та». В опытах по синтезированию новых химических элементов на выходе обычно получаются только осколки ядер — у Краснопер, сталкивающей слова, выходит что-то похожее.
сто три дня и ночи
со три
три у
u3 ru you
Но это не единственный модус ее письма, и аналогия с химией, конечно, неполна. Микросмыслы тут порождаются короткими столкновениями, это всякий раз интересно замечать — не стоит думать о поэзии Краснопер как о совсем уж фрагментарной. Если представить себе спектр от фрагментарности письма к плотности, то Краснопер отмечается по всей его протяженности. Например, хотя ее стихотворение часто состоит из «взаимоисключающих параграфов», эти антиномии могут обозначать как бы крайние точки одной темы. В стихотворении с традиционным лирическим сюжетом — а такие стихи составляют в книге целый раздел «Я пишу тебе» — это совершенно уместно:
я занимаю твой стул
я пишу тебе письмо
я не пишу тебе письмо
я ты-чу тебе пальцем
я чуть-чуть устарела
у меня отваливаются ноги
В следующей итерации мотив антагонизма захватывает уже и того, к кому говорящая обращается — как в стихотворении, которое так и начинается: «мы довольно противоположны...» Другой пример такого смыслового сгущения через расстановку противоположностей — стихи, в которых делается попытка поэтического самоопределения; здесь Краснопер оказывается близка к постобэриутским опытам, например Дмитрия Озерского.
я громкий человек
я гроздью громоздюсь
я горький человек
я грома не боюсь
я колкий человек
с уг-лом по всем верхам
я корка-человек
ку-лема и сова
Особенно характерны эксперименты с многоязычием. Переход с одного языка на другой тоже парадоксальным образом сгущает ее письмо — возможно, потому что здесь тоже речь о самоопределении, идентичности: «я ненавижу слово нация, нормально отношусь к nation / я не нагляжусь на себя и не избегаю i / я избегалась, но не устала / я müde, иногда ermüdet / я tired, иногда tired again». Связь идентичности с языковой проблематикой — вообще важное для Краснопер наблюдение: недаром гендер в одном из стихотворений неотделим от герундия.
Непросто определить, скажем так, скорость стихотворений Краснопер. В зависимости от состояния читающего это может быть и молниеносное жонглирование, и медитативное камлание; приведем в качестве примера целиком одну из лучших вещей книги:
до воды
доводы
до дыры
дóрывы
до росы
досыта
до стола
дóстану
до солей
дóлеса
до стучать
дочери
до чела
челочкой
до чего
да чего
до сучкá
дóручки
до двери
дореви
до зари
дозвени
до вины
да взгляни
Проект Краснопер хочется сопоставить с работой разных авторов. В свежей статье в «НЛО» Владимир Фещенко включает ее в число современных поэтов, экспериментирующих с «графолалией», то есть эрративной, нарочито аномальной орфографией; в этом ряду, по мысли исследователя, стоят Ника Скандиака (о чьем форматирующем влиянии на поэтики сегодняшних 20–30-летних еще предстоит думать и писать), Варвара Недеогло, недавно умершая София Камилл. Можно вспомнить и об экспериментах Полины Андрукович, и о ранних стихах Дины Гатиной, и (как делает Фещенко) о многоголосых партитурах Елизаветы Мнацакановой — такие «партитуры» есть и в книге Краснопер. Но если отойти в сторону от графики и орфографии, возникнут другие ассоциации. Тут есть и нежность, и внимание к мелочам, отличающие поэзию Василия Бородина, и сюрреалистический каталог в духе Николая Байтова («вот костный мозг, вот косые взгляды / вот первый луч, вот последнее прозвище / вот выяснение, вот вопрошение / вот колючка, вот шип / вот шесть пальцев, вот пять пятниц»). Есть, наконец, сериальность, напоминающая Валерия Нугатова, но гораздо более гуманистическая: «Будь человеком и не придется становиться им / Будь человеком и с животным все тоже нормально будет / Будь человеком и можно и на другого глазами смотреть»; заглавный текст книги, напоминающий фольклорную закличку, собственно, тоже обращен к «дорогому человеку». У Краснопер нет недоброй усмешки, даже если в стихах ее проскакивают жесткие образы. Среди этих сериальных текстов встречаются совершенно восхитительные — например, битническая вариация Нагорной проповеди: «блаженны пишущие, потому что не услышат / блаженны жены, женщины и щетины / блаженны из тины выходящие, подол придерживающие / блаженны капающие и капельки / блаженны жестяные тазы и жесткие подпорки / блаженны катящиеся по наклонной и крутящиеся на юле / блаженны желтые и светло-сиреневые». Перед нами типичное «поэта — далеко заводит речь»; мы не знаем, где поэт в следующий раз окажется, и тут время припоминать уже не химию, а квантовую физику.
Алексей Кияница. Ракетное лето. СПб.; Чебоксары: Free Poetry, 2024
 Название третьего сборника петербургского поэта сразу настраивает на ностальгию по несбыточному: «Ракетное лето» — это первый рассказ из «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери, дивной, томительно-горькой книги о будущем, которое никогда не наступило и в силу календарного хода времени давно обратилось в прошлое. Легко сопоставить этот хронотоп с воспоминаниями о детстве: ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок (ведь Брэдбери — детское чтение). Кияница это и делает:
Название третьего сборника петербургского поэта сразу настраивает на ностальгию по несбыточному: «Ракетное лето» — это первый рассказ из «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери, дивной, томительно-горькой книги о будущем, которое никогда не наступило и в силу календарного хода времени давно обратилось в прошлое. Легко сопоставить этот хронотоп с воспоминаниями о детстве: ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок (ведь Брэдбери — детское чтение). Кияница это и делает:
Теперь уже никуда
не уехать отсюда,
где сараи, гаражи,
простыни парусами,
сирень в цвету.
Где вечер выпускает на волю
телевизионные голоса,
стучит мяч,
звенят под старым «Москвичом»
гаечные ключи.
Ведь всего этого
больше нет.
О таком типе стихов — ясных верлибрах, отсылающих к опыту Бурича, Метса, наших современников Анатолия Гаврилова и Дмитрия Григорьева (еще одного, кстати, автора издательства Free Poetry), — непросто писать. Они близки к иконическому, визуальному искусству, их аллюзии прозрачны, их авторы сознательно не закладывают в текст двойных смыслов и потайных слоев — но те смыслы, что вложены, прекрасно работают с читательскими эмоциями. Стихотворение Кияницы — чаще всего осмысление воспоминания. Это осмысление может быть окрашено сожалением, недоумением, тем, что называется «светлая грусть»: «В киберэлизиуме / встретишь случайно / милую сердцу тень. / Посидите в кафе, / поговорите о пустяках, / так будто расстались / только вчера. / И про себя удивишься, / отчего тогда так страдал / и томился». Герой стихов может внезапно подключиться к прошлому, выпасть в него в любой момент: бродя по городу, заходя во двор, вгрызаясь в большое красное яблоко, перебирая отцовские бумаги или глядя на фотографию молодой матери. Это означает его глубокую укорененность в личном пространстве и личной истории — и притом он признает: «нужно обрести новый опыт / опыт того / что ничего повторить нельзя». За констатацией душевного разлада («когда-то / еще в детстве / опоздал / пропустил / не расслышал / не запомнил / все перепутал / от всех отстал / с тех пор / вся жизнь как попало») следует идеалистический рецепт:
убежать на пустырь
туда где
из всякого хлама
строят штаб
закапывают секретики
выплавляют
из старого аккумулятора
свинец
Перед нами книжка-аутотренинг, гимн ежедневному минутному эскапизму. Убежать не получится, фантазировать о побеге — да, хотя бы раз в день. Можно представить себе, что 33 стихотворения, входящие в «Ракетное лето» — фиксация примерно месяца таких внезапных наплывов ностальгии. Но чем дальше, тем беспощаднее Кияница к бесплодности и ограниченности этого чувства — например, в одном коротком стихотворении он будто спорит с картотекой Льва Рубинштейна «Это я»: «а это Костик / а это Мишка / а это Светка / а это мы в горах / а это Мишкин день рожденья / а это / но что тебе до этого всего». Перед нами, конечно, не чистая ностальгия как она есть, а ностальгия поэтически опосредованная — минимализм стихов не скрывает этого до конца, да и не хочет скрыть. «искусство ностальгии / состоит в том чтобы / никогда не возвращаться / туда где когда-то / и не искать тех / с кем когда-то».
Луиза Глик. Дикий ирис. Аверн. Ночь, всеохватная ночь / Перевод с английского Ивана Соколова, Андрея Сен-Сенькова, Дмитрия Кузьмина. М.: Эксмо; Inspiria, 2024
 Этот сборник лауреатки Нобелевской премии за 2020 год был подготовлен и анонсирован еще при ее жизни (Луиза Глик умерла в октябре 2023-го) — но вышел только недавно. Лауреатство Глик в свое время рассматривалось как противовес лауреатству Боба Дилана, которое, в свою очередь, называли популистским решением. Автору этих строк в день объявления Глик лауреаткой позвонила журналистка и с отчаянием прокричала в трубку: «Всем звоню — никто не читал, даже не слышал!» При этом стихи Глик в России публиковались и до 2020-го, в том числе в переводе того же Ивана Соколова; выходило и две книги русских переводов — одна в Нью-Йорке, другая в Москве (причём во втором случае это был сборник «Дикий ирис», вошедший и в новейший том — правда, работа другого переводчика).
Этот сборник лауреатки Нобелевской премии за 2020 год был подготовлен и анонсирован еще при ее жизни (Луиза Глик умерла в октябре 2023-го) — но вышел только недавно. Лауреатство Глик в свое время рассматривалось как противовес лауреатству Боба Дилана, которое, в свою очередь, называли популистским решением. Автору этих строк в день объявления Глик лауреаткой позвонила журналистка и с отчаянием прокричала в трубку: «Всем звоню — никто не читал, даже не слышал!» При этом стихи Глик в России публиковались и до 2020-го, в том числе в переводе того же Ивана Соколова; выходило и две книги русских переводов — одна в Нью-Йорке, другая в Москве (причём во втором случае это был сборник «Дикий ирис», вошедший и в новейший том — правда, работа другого переводчика).
Нынешняя публикация составлена из трех книг Глик — «Дикий ирис» (1992), «Ночь, всеохватная ночь» (2014) и «Аверн» (2006). В предисловии Дмитрий Кузьмин подробно останавливается на том, как Глик применяет модернистскую повествовательную технику, вплетая мифологические мотивы в современный, а на самом деле вневременной материал: в «Диком ирисе» обычные люди разговаривают с Богом, живущим внутри цветов, в «Аверне» три одинокие, исчезающие героини (одна из которых — похищенная Аидом Персефона) размышляют о жизни и смерти на берегу озера, где, согласно поверьям римлян, находился вход в царство мертвых... По описанию это может показаться герметичными, интеллектуалистскими упражнениями — но на самом деле Глик пишет ясно, и тоску по иной, райской красоте в аскетичных пейзажах ее стихов, думается, может ощутить каждый:
Недосягаемый отец, изгнав нас
из рая, ты создал
копию — место, в чем-то
отличное от рая, чтоб
преподать урок: в остальном
то же самое — красота повсюду, красота
без вариантов, — вот только мы не знали,
в чем заключался урок. Оставшись наедине,
мы истязали друг друга. Наступили годы
тьмы; мы по очереди
работали в саду, и вот первые слезы
появились в наших глазах, когда земля
затуманилась лепестками, одни были
темно-красными, другие телесного цвета —
мы и не думали о тебе,
хоть и учились тебе молиться.
Просто знали, что человеку свойственно любить
лишь то, что не отвечает взаимностью.
(пер. Андрея Сен-Сенькова)
Разговор с цветами — верный знак одиночества. Чувство одиночества, не связанное с персонажной населенностью стихов, пронизывает поэзию Глик и, вероятно, отвечает ее обособленности в американском поэтическом ландшафте. Садовые бдения в «Диком ирисе» — это монологи и обращения людей, у которых есть время остановиться и подумать. Сюда же относится тоскующая, охлажденная интонация, которую удалось передать всем переводчикам; Глик не изменяет ей, даже когда говорит о «звезде, огне, ярости», «обрушении света». И если в стихотворении описывается атака стихий, переворачивающая все в душе, поэтесса сохраняет контроль над эмоциями и разумом, продолжая свою мысль, распоряжаясь ее длительностью.
Налетел и улетел, разгромив разум, ветер;
вслед за ним воцарилась странная ясность.
Не каждому дано, как тебе, все так же преданно
цепляться за то, что любишь;
надежду изъяли, но ты не сдалась.
Maestoso, doloroso:
Это свет осени; он обрушился на нас.
Да, не каждому дано, как тебе, приближаясь к концу,
все еще верить во что-то.
(пер. Ивана Соколова)
В целом это стихи предельно внятные. Как писал Михаил Айзенберг, «скажешь „зима“ — и все снегами занесено»; Глик работает именно так — называет что-то, и это появляется или исчезает. «Время шло, и часть его стала вот этим. // И часть его попросту испарилась / смотри, вон оно плывет поверх белых деревьев, / образуя мелкие льдинки». «Снег идет на земле; ледяной ветр говорит: // Персефона сейчас занимается сексом в аду. / В отличие от всех нас, она ведь не знает, / Что такое зима, знает только, / что вызывает зиму она сама» (пер. Дмитрия Кузьмина). Секса в этих стихах неожиданно много — но нет откровенных его описаний, потому что у Глик он почти лишен эротизма. Она понимает секс как остраняющую силу, ту стихию в каталоге природных стихий, которая отвечает за внезапное переключение сознания (которое, конечно, может быть травматическим — что подчеркивает обращение к мифу о Персефоне). Секс здесь странен, как и другие человеческие связи, особенно семейные.
Я в постели. Этот мужчина и я,
мы оба зависли в странном покое,
так случается после секса. Обычно случается после секса.
Влечение, что это такое? Желание, что это такое?
Летние созвездья в окне.
Когда-то я могла их назвать.
(пер. Дмитрия Кузьмина)
В своем последнем сборнике 2021 года Глик сделала еще один шаг к простоте высказывания — и оказалась на границе той территории, куда всю жизнь сознательно не заходила: почти-публицистики, почти-социальности. Стихам это на пользу не пошло. Нынешнее собрание представляет самые сильные ее вещи, элегические по своей природе (тут не случайно есть стихотворение «по мотивам» Пушкина) — и увлекательные: и разлука, и одиночество тут подаются как грустные, но приключения. «И-го-го, и-го-го, — сказало мне сердце; или, может быть, никого, никого, — не разобрать» (пер. Дмитрия Кузьмина). У читателя есть возможность погрузиться в завораживающую и неспешную интонацию, с которой произносятся вещи сложные, но не закрытые от понимания семью печатями.