Отель «У погибшего гика»
О новом романе Шамиля Идиатуллина
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Шамиль Идиатуллин. Бояться поздно. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2024
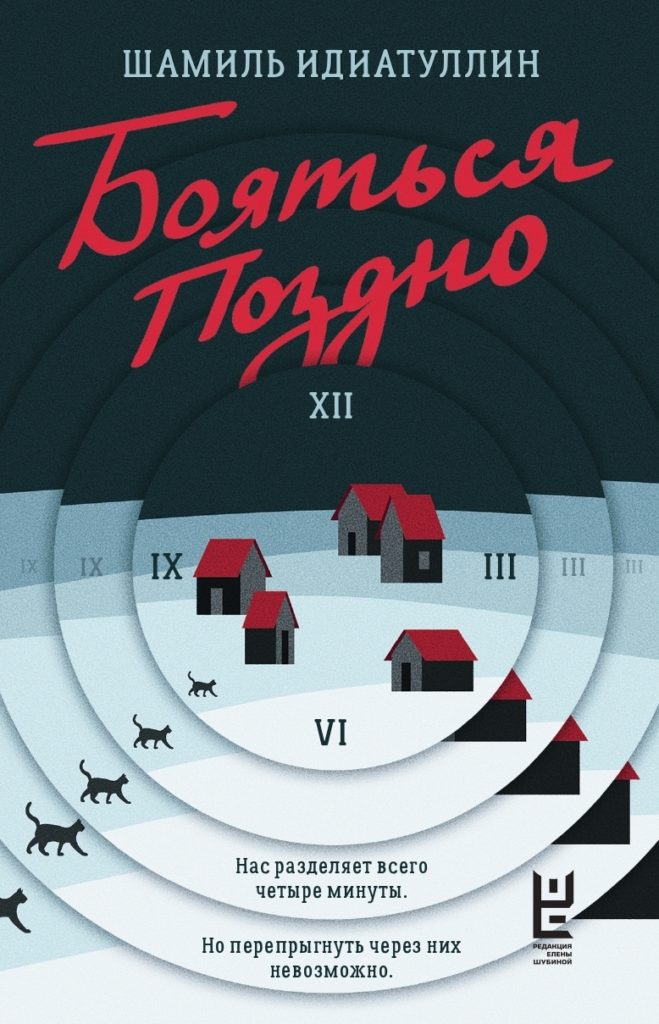 В 2012 году, когда в России только-только схлынула волна «вампирбургеров», Шамиль Идиатуллин выпустил роман «Убыр» о борьбе отважного недоросля из столицы Татарстана с коварной нечистью, вселившейся в родных и близких (и получил за эту книгу первую в истории премию «Новые Горизонты»).
В 2012 году, когда в России только-только схлынула волна «вампирбургеров», Шамиль Идиатуллин выпустил роман «Убыр» о борьбе отважного недоросля из столицы Татарстана с коварной нечистью, вселившейся в родных и близких (и получил за эту книгу первую в истории премию «Новые Горизонты»).
В 2016-м, когда юные и не очень юные читатели еще угорали по книгам «в жанре ЛитRPG», как писали тогда в пресс-релизах, Идиатуллин сочинил повесть «Это просто игра» про обмен разумами между геймером и персонажем видеоигры.
В 2022-м, когда про «попаданцев», кажется, было сказано уже все, что только можно сказать словами через рот и буквами по бумаге, Идиатуллин опубликовал «Возвращение «Пионера», роман о советских школьниках, которые фантастическим образом перемещаются в условные «наши дни», а потом возвращаются обратно в 1980-е.
Словом, у Шамиля Шаукатовича есть невинное хобби: брать какую-нибудь жанровую формулу, затертую до дыр потными руками писателей и режиссеров, разбирать ее на детали и собирать снова — почти такой же, как была, однако с некоторыми малозаметными, но принципиальными модификациями.
Ровно то же повторяется и в романе (большой повести?) «Бояться поздно». В январе 2024 года группа казанской молодежи, ребята и девчата, знакомые в основном заочно, по закрытому телеграм-каналу, отправляются на пригородную турбазу с одной ночевкой. Чтобы наконец развиртуализироваться, поесть шашлыков, покататься с горки, выпить винца, если религия позволяет, — в общем, культурно отдохнуть, как, по мнению автора, отдыхает современное продвинутое студенчество («Йоу, йоу! Сноубординг! Дискета!»). Кульминацией поездки должна стать разнузданная оргия... в смысле приватное бета-тестирование некой культовой, но недоступной для простых смертных видеоигры. Но что-то идет не так — и вместо веселых посиделок с новыми друзьями главная героиня романа Аля оказывается заперта в петле времени а-ля «День Сурка». Как царица Сююмбике в башне, заточена в одном бесконечно повторяющемся временном отрезке, который начинается с поездки в электричке, а заканчивается остывающими трупами в загородном коттедже.
«Нам был совершенно ясен фундаментальный, можно сказать — первородный, имманентный порок любого, даже самого наизабойнейшего детектива. — Писал Борис Стругацкий в „Комментариях к пройденному“, вспоминая, как они с братом работали над повестью „Отель „У погибшего альпиниста“. — Вернее, два таких порока: убогость криминального мотива, во-первых, и неизбежность скучной, разочаровывающе унылой, убивающей всякую достоверность изложения, суконной объяснительной части, во-вторых. Все мыслимые мотивы преступления нетрудно было пересчитать по пальцам: деньги, ревность, страх разоблачения, месть, психопатия... А в конце — как бы увлекательны ни были описываемые перипетии расследования, — неизбежно наступающий спад интереса, как только становится ясно: кто, почему и зачем». В романе «Бояться поздно» мотив преступления вполне укладывается в этот куцый список, но Идиатуллин довольно ловко переключает внимание на другую проблему, с «кто виноват» на «что делать». Временная петля ломает линейную логику, развеивает скуку, добавляет огонька.
Но и к законам этого смежного с детективом «жанра» автор относится, надо признать, без особого пиетета.
Среди тысяч произведений о петле времени сотни имеют криминальный сюжет — некоторые из этих книг, фильмов, телесериалов, комиксов и видеоигр вспоминают персонажи романа «Бояться поздно», гораздо больше названий Шамиль Идиатуллин перечисляет открытым текстом в интервью и на встречах с читателями. Как правило, герой такой истории быстро преодолевает первоначальный шок, разбирается в правилах игры и методом проб и ошибок подбирает выигрышную комбинацию обстоятельств — даже собственная смерть со временем перестает пугать протагониста в силу ее неокончательности. Исключения случаются (см., например, «Подробности жизни Никиты Воронцова» С. Ярославцева), но не часто. Происходит, как сказали бы сегодня, нормализация, сто раз повторенное перестает восприниматься как нечто из ряда вон выходящее.
В книге Идиатуллина все наоборот, все шиворот-навыворот: атмосфера непрерывного кошмара только сгущается, и чем дальше, тем плотнее. Раз за разом Аля пытается вырваться из петли, без сна и отдыха, в состоянии непрерывного стресса, и уже к первой трети книги начинает понемногу ехать крышечкой. Наверное, в каком-то приближении эта ситуация знакома каждому читателю, — но автор доводит ее до самоубийственной остроты, до экстремального накала. Никакой нормализации, напротив: пока будущие жертвы убийцы невинно веселятся и щебечут вокруг, Аля, которая все знает, все понимает и отлично помнит, чем закончится этот «выезд с одной ночевкой», с каждым витком испытывает все больший ужас.
В прессе «Бояться поздно» называют романом для геймеров — но это, конечно, заблуждение. Идиатуллин известен как автор целого ряда романов «про детей, но не для детей», от «Убыра» до «Города Брежнева» и «Возвращения «Пионера». Здесь примерно та же история: «Бояться поздно» — роман о геймерах, но не для геймеров. Настоящие компьютерные гики слишком быстро заметят ряд мелких, но очевидных логических нестыковок — начиная с того, что игра заявленного уровня просто не должна без долгих танцев с бубнами грузиться на стареньком убитом ноутбуке главной героини. Понятно, что это художественная условность, этого требует фабула, что автор по ряду причин не стремится к стопроцентной реалистичности, скорее наоборот. Правда, для того чтобы в общих чертах понять, «что сей сон означает» и зачем эта условность понадобилась, роман надо дочитать если не до конца, то как минимум до середины — не всякий гик до этого момента дотянет.
Наверное, «Бояться поздно» можно принять за бесхитростный фантастический детектив, написанный без всякой задней мысли, — хотя придется приложить некоторое внутреннее усилие, но почему нет? Тоже вариант интерпретации. Конечно, тянет возразить: вы не понимаете, это другое — метафора, притча, аллегория. Но если серьезно, без шуток за триста и прокисших десять лет назад интернет-мемов: какое произведение, созданное по этой формуле, — не метафора, не притча и не аллегория? На самом деле любая история о петле времени, даже если автор ничего подобного не имел в виду, прежде всего история о фатуме, о необратимости и о свободе воли. И главный вопрос здесь не «что» да «как», а можно ли что-то изменить, что-то исправить — или всё, кранты, поздно бояться и пить боржоми, когда почки отвалились.
Идиатуллин дает прямой и честный ответ: без бога из машины и рояля в кустах, без дополнительных вводных, о которых главная героиня внезапно узнает за пятьдесят страниц до финала, — нельзя.
Но, конечно, хочется верить, что, как в известном анекдоте, прилетят инопланетяне, помяукают, покусают за пятку — и всех нас спасут.