Отдел целесообразного употребления пайка: книги недели
Что спрашивать в книжных
«Я знаю, что так писать нельзя»: Феномен блокадного дневника. Сост. А. Ю. Павловская, науч. ред. Н. А. Ломагин. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. Содержание. Фрагмент
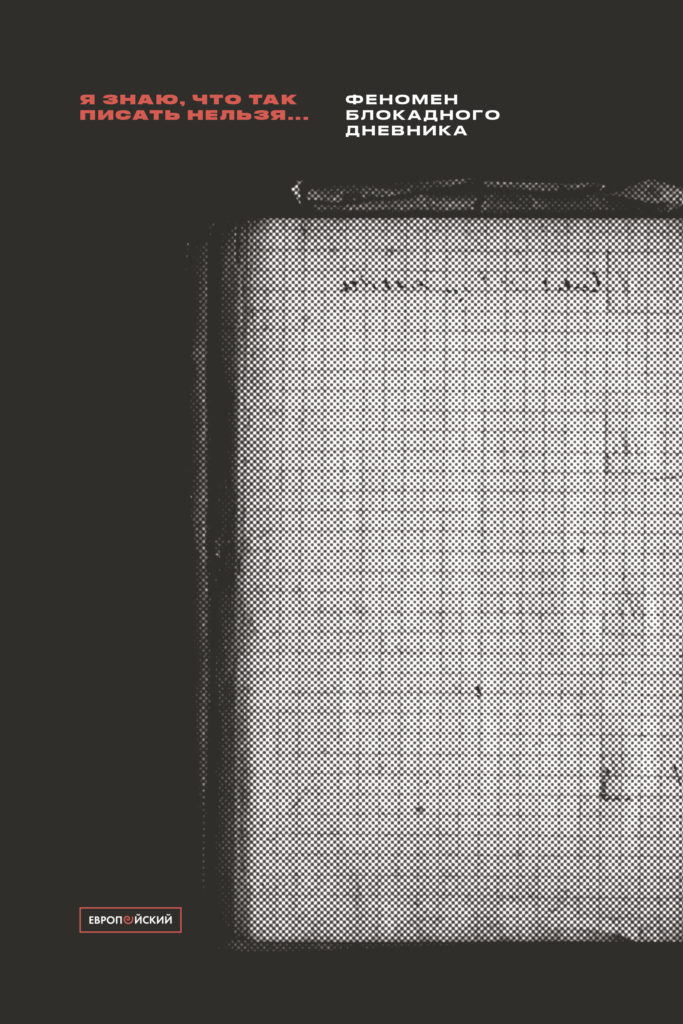 «Блокадные тексты издаются по очень разным принципам, часто в малотиражных изданиях или подготовленных самодеятельно», — говорится в предисловии к изданию, подготовленному Центром исследования эго-документов ЕУСПб с целью «перехода к систематической публикации [блокадных дневников], которая бы позволила читателям и исследователям оценить это явление во всей его сложности и во всем его многообразии». И вести о нем чуть более обоснованный академически и чуть менее экзальтированный разговор — пускай это и сложно, добавим мы.
«Блокадные тексты издаются по очень разным принципам, часто в малотиражных изданиях или подготовленных самодеятельно», — говорится в предисловии к изданию, подготовленному Центром исследования эго-документов ЕУСПб с целью «перехода к систематической публикации [блокадных дневников], которая бы позволила читателям и исследователям оценить это явление во всей его сложности и во всем его многообразии». И вести о нем чуть более обоснованный академически и чуть менее экзальтированный разговор — пускай это и сложно, добавим мы.
Перед нами первый том серии, который пытается ответить на вопрос «Что такое блокадный дневник?» и состоит из семи образцов жанра — с авторами в диапазоне от школьников до пламенного большевика и номенклатурного работника; каждый текст дерет сердце по-своему.
Сама идея репрезентативно представить жанр может показаться смелой в силу уникальности трагедии каждого и каждой, однако тому есть статистическое, если так можно выразиться, обоснование. По данным «Прожито», дневниковый корпус блокады характеризуется не только запредельной интенсивностью (никогда в истории России столько людей не вели дневники в одном городе), но и социально-демографической сбалансированностью. Здесь в сопоставимых долях представлены все возраста (от 8 до 60) и оба пола, притом что обычно женщины ведут дневник в три раза реже. Объяснять это можно по-разному, однако согласимся с авторами предисловия: наиболее важным здесь кажется тот факт, что дневник — универсальный инструмент сохранения собственной субъектности (чего нельзя сказать о блогах).
«Вообще, самые блаженные минуты — это вечером, когда под двумя одеялами прижимаемся друг к другу, тепло, засыпаем — и так ценишь Алину любовь, счастье вдвоем».
Саймон Кинг, Клэр Насир. Чем пахнет дождь? Ясные ответы на туманные вопросы о климате и погоде. М.: Бомбора, 2022. Перевод с английского Александра Коробейникова. Содержание. Фрагмент
 Есть мнение, что разговоры о погоде — это нечто ничтожное, нейтральное до неловкости. Это, безусловно, полнейшая чушь: погода — единственная вещь, о которой стоит говорить приличным людям.
Есть мнение, что разговоры о погоде — это нечто ничтожное, нейтральное до неловкости. Это, безусловно, полнейшая чушь: погода — единственная вещь, о которой стоит говорить приличным людям.
Сотрудники метеорологической службы Великобритании написали книгу в формате ответов на сто вопросов о погоде, причем в список вошли, казалось бы, не самые «погодные» вопросы вроде «почему небо голубое» или «как сила тяжести действует на воздух». Делают они это где-то более доступно, где-то менее, но в целом бодро и крайне познавательно.
Кого-то может оттолкнуть, что книга больше похожа на перечень занятных фактов, чем на систематическое рассуждение о том, что касается всех и каждого все более тревожным образом. Несколько утешает технооптимизм авторов, которые полагают, что инженерная модификация климата может нас спасти. Дело, как уточняют они, за малым: все земные правительства должны между собой договориться.
«Это не должно стать проблемой, правда?!»
Евгений Шварц. Люблю удивляться: дневник и письма 1938–1957 годов. М.: Издательство АСТ, 2022
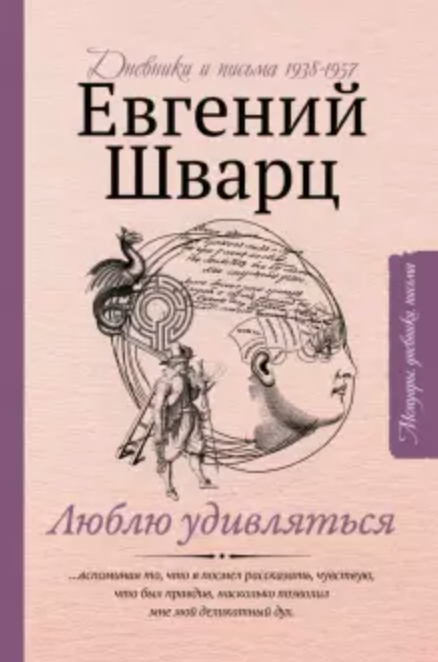 Прославленный драматург-сказочник вел дневники на протяжении нескольких десятилетий — ранние не сохранились, а написанное с 1942-го по 1957 год в том или ином виде, в сокращении или частями, публикуется начиная с 1990 года. Дневники его сказкам ничем не уступают, и особенно примечательны поздние, вошедшие в книгу «Люблю удивляться» и больше напоминающие мемуары, — после смерти Сталина Шварц смог хотя бы в них рассказать о себе и своих современниках многое из того, что невозможно было сообщить публично. Помимо дневниковых записей, в это издание включена подборка писем 1938–1957 годов. На всякий случай стоит предупредить: едва ли не в каждом абзаце книги встречаются грубые опечатки, но для нынешнего издательского дела, и в особенности для самого известного крупного издательства, такое, увы, давно не в новинку.
Прославленный драматург-сказочник вел дневники на протяжении нескольких десятилетий — ранние не сохранились, а написанное с 1942-го по 1957 год в том или ином виде, в сокращении или частями, публикуется начиная с 1990 года. Дневники его сказкам ничем не уступают, и особенно примечательны поздние, вошедшие в книгу «Люблю удивляться» и больше напоминающие мемуары, — после смерти Сталина Шварц смог хотя бы в них рассказать о себе и своих современниках многое из того, что невозможно было сообщить публично. Помимо дневниковых записей, в это издание включена подборка писем 1938–1957 годов. На всякий случай стоит предупредить: едва ли не в каждом абзаце книги встречаются грубые опечатки, но для нынешнего издательского дела, и в особенности для самого известного крупного издательства, такое, увы, давно не в новинку.
«Я был влюблен во всех почти без разбора людей, ставших писателями. И это, вместо здорового профессионального отношения к ним и к литературной работе, погружало меня в робкое и почтительное оцепенение. И вместе с тем, в наивной, провинциальной требовательности своей, я их разглядывал и выносил им беспощадные приговоры. Я ждал большего. От них, от Москвы в свое время. А писатели стали бывать у нас в гостях. Взял нас под покровительство Кузмин, жеманный, но вместе с тем готовый ужалить. Он все жался к времянке. Рассказывал, что в былые времена обожал тепло, так топил печь, что она даже лопнула у него однажды. С ним приходил Оцуп, поэт столь положительного вида, что Чуковский прозвал его по начальным буквам фамилии Отдел целесообразного употребления пайка. Появился однажды Георгий Иванов, чуть менее жеманный, но куда более способный к ядовитым укусам, чем Кузмин».
Валентин Курбатов. Домовой. М.: Издательская группа 1900, 2021
 Переиздание еще одной книжки замечательного писателя и критика Валентина Курбатова, трудов которого читающая публика продолжает в упор не замечать, отдавая предпочтение главному и важному, из-за чего за державу несколько обидно: цивилизованным людям так разбрасываться своими талантами не к лицу. Валерий Яковлевич жанрово себя не ограничивал и создавал свои сочинения так, как подсказывал сам материал: благодаря этому книга о Семене Степановиче Гейченко (1903—1993), многолетнем директоре Пушкинского заповедника, получилась весьма необычная и мало на что похожая, в ней тексты Курбатова соседствуют с письмами его героя, а также с прямой речью Гейченко, записанной ВЯ по памяти. Семен Степанович прожил девяносто лет, успел на своем веку повидать и царскую Россию, и закат советской эпохи, но личностью был в высшей степени цельной и отличался — повторимся — значительными талантами, к которым современная эпоха более чем равнодушна: он был не просто гениальным музееведом, но настоящим хранителем пушкинского духа, положившим полжизни на восстановление уничтоженного нацистами Михайловского. Он не ходил в музей «на работу» — он жил там и собственной жизнью возрождал и поддерживал то, что знал и любил Александр Сергеевич. Со стороны все это может показаться просто риторикой, но всякий, кто возьмет на себя труд ознакомиться с книгой «Домовой», названной по одноименному стихотворению Пушкина, легко убедится, что дело обстоит именно так.
Переиздание еще одной книжки замечательного писателя и критика Валентина Курбатова, трудов которого читающая публика продолжает в упор не замечать, отдавая предпочтение главному и важному, из-за чего за державу несколько обидно: цивилизованным людям так разбрасываться своими талантами не к лицу. Валерий Яковлевич жанрово себя не ограничивал и создавал свои сочинения так, как подсказывал сам материал: благодаря этому книга о Семене Степановиче Гейченко (1903—1993), многолетнем директоре Пушкинского заповедника, получилась весьма необычная и мало на что похожая, в ней тексты Курбатова соседствуют с письмами его героя, а также с прямой речью Гейченко, записанной ВЯ по памяти. Семен Степанович прожил девяносто лет, успел на своем веку повидать и царскую Россию, и закат советской эпохи, но личностью был в высшей степени цельной и отличался — повторимся — значительными талантами, к которым современная эпоха более чем равнодушна: он был не просто гениальным музееведом, но настоящим хранителем пушкинского духа, положившим полжизни на восстановление уничтоженного нацистами Михайловского. Он не ходил в музей «на работу» — он жил там и собственной жизнью возрождал и поддерживал то, что знал и любил Александр Сергеевич. Со стороны все это может показаться просто риторикой, но всякий, кто возьмет на себя труд ознакомиться с книгой «Домовой», названной по одноименному стихотворению Пушкина, легко убедится, что дело обстоит именно так.
«Петухи были его [Гейченко] страстью. Они читались в Михайловском наоборот и оттого сразу становились таинственны, как ассирийские императоры, — Хутеп I, II, XVI...
— Петуха надо искать по деревням долго и выбирать того, в чьем роду помнят если не нашествие Стефана Батория, то хотя бы отступление Бонапарта. Тогда его надо отнимать от крестьянских куриц, и он сразу идет в «голову». С этим XVII у меня была история. Я читал ему вечерами «Сказку о золотом петушке», и однажды Люба [супруга Гейченко] сказала мне: «Сеня, ты посмотри, что с нашим петухом. — „А что?” Я вышел. Петух сидел на вершине липы у нашего дома, как на спице, и смотрел из-под руки, „не идет ли вражья рать”. С той поры он взлетал туда каждый вечер. Пока однажды не грянула гроза, молния ударила рядом. Он схватился за голову и упал. В отличие от остальных, бульонированных, этот был торжественно погребен. Он был кирасир, горел золотом и медью и был настоящий красавец. Не все были таковы от рождения. Один у меня был белый — баловень, наглец: что тебе походка, что взгляд. И мы со скульптором Белашовой решили его покрасить. Да уговори-ка его. Но кто-то надоумил дать ему каплю-другую валерьянки. Он хватил — и на бок! Тут мы его и разрисовали. Вышел франт, князь Куракин. Когда он проснулся и увидел себя, он дал деру в родные Дедовцы показаться, и мы только его и видели».
Эллен Руттен. Искренность после коммунизма: культурная история. М.: Новое литературное обозрение, 2022. Перевод с английского Андрея Степанова. Содержание
 Если верить заглавию этой книги историка культуры Эллен Руттен, коммунизм все-таки наступил, а мы его даже не заметили. Впрочем, если отбросить буквоедство, к этой работе и так останется немало вопросов.
Если верить заглавию этой книги историка культуры Эллен Руттен, коммунизм все-таки наступил, а мы его даже не заметили. Впрочем, если отбросить буквоедство, к этой работе и так останется немало вопросов.
В центре исследования Руттен — «новая искренность» как феномен мировой и в первую очередь русской культуры. Само понятие родилось в домашних студиях художников эпохи перестройки — и, скорее всего, как указывает авторка, в недрах ленинградской «Новой академии» Тимура Новикова, а не сошло с кикиморовых уст Дмитрия Александровича Пригова, как обычно принято считать. Термин, как водится, зажил своей жизнью, этакой сиротинушкой прибиваясь то к постпостмодернизму, то к постконцептуализму, то к постхипстерскому метамодерну и в итоге начал раздражать даже тех, к кому его изначально применяли. В общем, новая искренность — штука удивительно живучая для мертворожденного понятия, и описывает она явно что-то такое же неуклюжее, как и два этих слова, но требующее к себе повышенного внимания.
Взяться за ее исследование — труд заведомо благородный, но и неблагодарный, поэтому Руттен заслуживает всяческого уважения хотя бы за само это предприятие. Если снять маску снисходительности, в книге и правда много чрезвычайно метких наблюдений, касающихся того, как искренность, возведенная русскими людьми в культ, была мощным орудием протеста в самые разные эпохи — от протопопа Аввакума до Карамзина. Но как только дело доходит до времен относительно актуальных, методология Руттен допускает досадные сбои. Так, приблизительно к середине книги вдруг выясняется, что новая искренность и сопутствующий ей стеб бывают правильными (Пригов, Рубинштейн, Сорокин) и неправильными, «с душком» (художник Алексей Беляев-Гинтовт и неустановленная группа лиц).
Впрочем, если закрыть глаза на существенные недостатки книги, ее можно было бы назвать многообещающим зачином для серии больших обобщающих работ по теме действительно необычного культурного явления. Но это было бы не совсем искренне.
«Теоретик литературы и политик Михаил Лотман (сын известного советского ученого) недавно задался вопросом, „искренни” ли „люди с коммунистическим прошлым”, когда публично выражают сожаления о смене политического курса, и пришел к выводу, что ответ на этот вопрос сложнее, чем выбор между „да” и „нет”».
Дмитрий Бакин. Гонимые жизнью. СПБ.: Лимбус Пресс, 2022
 Дмитрий Бакин — писатель уникальный даже по меркам русской литературы, и без того чрезмерно богатой на уникальных писателей. При жизни он прослыл отшельником в стиле Сэлинджера или Пинчона, от этой позы он не может избавиться и после смерти. В случае Дмитрия Геннадиевича это, однако, не поза, а позиция — позиция антинарциссизма.
Дмитрий Бакин — писатель уникальный даже по меркам русской литературы, и без того чрезмерно богатой на уникальных писателей. При жизни он прослыл отшельником в стиле Сэлинджера или Пинчона, от этой позы он не может избавиться и после смерти. В случае Дмитрия Геннадиевича это, однако, не поза, а позиция — позиция антинарциссизма.
Рассказы и повести Бакина можно упрекнуть за то, что они на что-то похожи. Поклонник Андрея Платонова обязательно заметит в них платоновскую ломку языка; ценитель Фолкнера разглядит долгие, почти захлебывающиеся периоды; студент, несущий под мышкой том Кафки, обратит внимание на то, что один из рассказов Бакина называется «Землемер». Но это все лишь иллюзия эпигонства, на самом деле это лишь говорение чужими устами — ведь Бакин сознательно исключает себя не только из литературного сообщества с его премиями и интервью, но из самой Литературы с большой буквы «Л» и ее претензией на оригинальность. Чтобы рассказать не о себе любимом, а о других, никем не любимых людях, с которыми мы сосуществуем в нашем бренном бытии.
Наследие Дмитрия Геннадиевича уместилось в одну книжку, тонкую, как тень, которую он отбросил, проходя по залитой солнцем поляне новой русской литературы, где под роскошной земляникой всякой бездарности млеет великая в своей скромности и чрезвычайно плодородная земля. О ней мы еще обязательно расскажем подробно.
«Являясь помазанником недр, я добровольно отказываюсь от благодати неба в пользу земли, потому что мой дух принадлежит ей, и все, что ниспослано, предначертано мне, — ниспослано, предначертано снизу, тогда как все существующее выше может лишь восхищать своей красотой и непостижимостью».