Осколки надежды, любви и тепла
О книге Реймонда Карвера «Собор. Откуда я звоню и другие истории»
В новую книгу Реймонда Карвера, классика американской литературы, «грязного реалиста», вошли рассказы, большая часть которых прежде не переводилась на русский язык. По просьбе «Горького» об этой книге рассказывает Дарья Петропавловская.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Реймонд Карвер. Собор. Откуда я звоню и другие истории. СПб.: Азбука, Издательство АЗБУКА, 2025. Перевод с английского В. Бабкова, Т. Боровиковой, А. Глебовской и др. Содержание
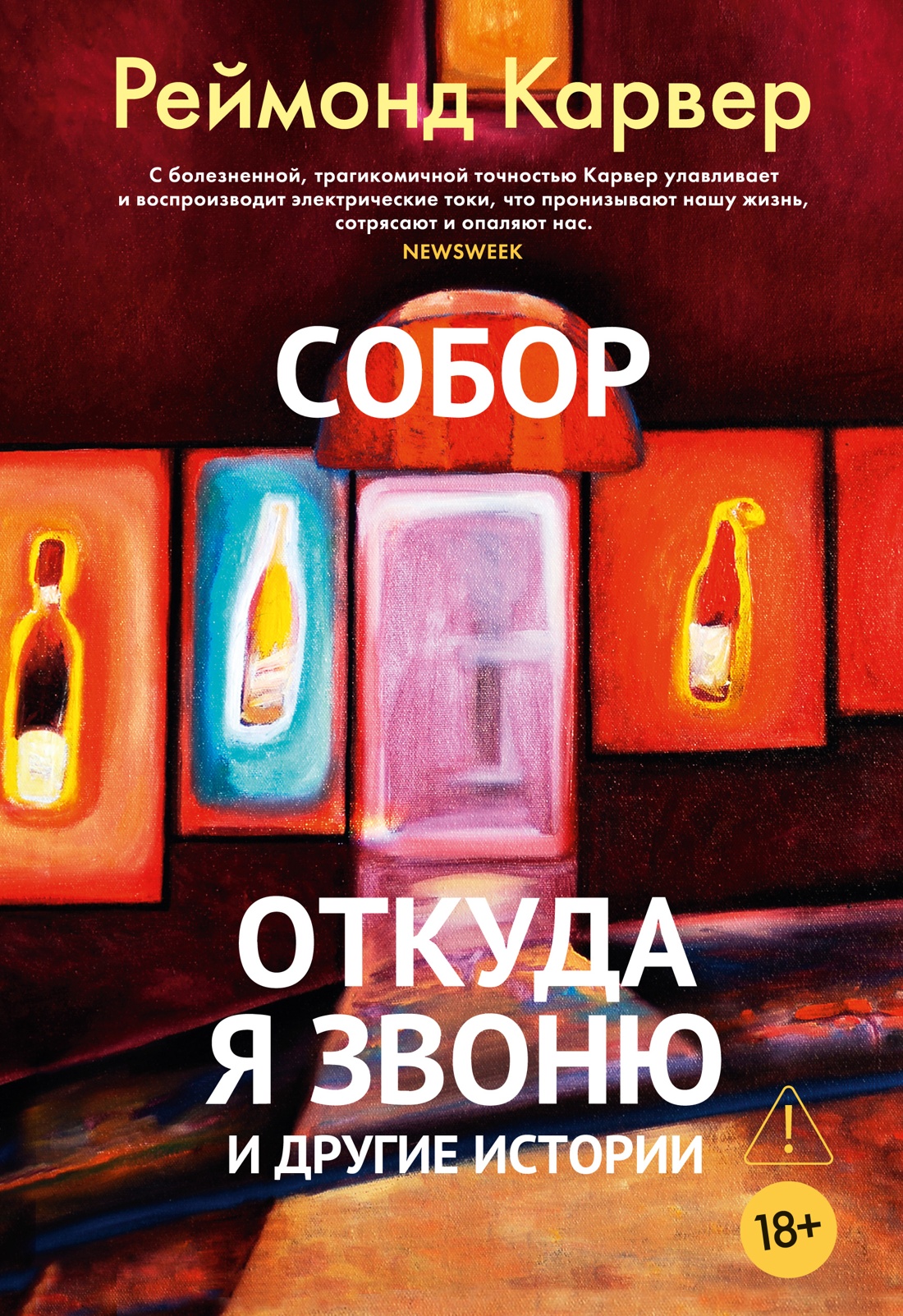
Последователь Хемингуэя и О. Генри, новый «американский Чехов», представитель «грязного реализма», а также фотореализма, минимализма, «многословного» минимализма или «минимального реализма» (и далее — все вариации с основным корнем «минимал», хотя сам автор о термине отзывался с насмешкой, говоря, что это лишь очередное веяние моды), несостоявшийся романист и неизвестный России поэт, мужчина средних лет, победивший к сорока годам алкоголизм и не веривший в особую силу художественной литературы, — все это маски-маски-маски Раймонда Карвера, которыми без устали награждали прозаика на протяжении всей его карьеры.
Вышедший в этом году на русском томик Карвера содержит максимальное разнообразие малой прозы автора — от известных публике рассказов вроде «Собора», «Маленького хорошего дела» и «Откуда я звоню» до найденных посмертно и переведенных впервые материалов, завершающих данную книгу. Но несмотря на всю протяженность в реальном времени, несмотря на значительный переход от бедствующего двадцатилетнего молодого отца и мужа, каким Карвер был в 1960-е, когда малая проза была в первую очередь необходимостью или, как позднее в эссе «Огни» (Fires: essays, poems, stories, 1983) выразился сам прозаик, «не чем иным, как формальным браком по необходимости и удобству» («nothing more than a working marriage of necessity and convenience»), к преуспевающему американскому писателю, дающему отдельное интервью в честь выхода сборника «Собор», его рассказы все так же тяготеют к безвременью. В Америке Карвера не слышно отголосков войны во Вьетнаме, а Мартин Лютер Кинг не призывает афроамериканскую молодежь выходить на улицу и отстаивать свои права; женщины не оставляют дома своих закостенелых мужей и детей-обуз, чтобы громогласно заявлять о тяге к свободе; и даже хиппи со своими причудливыми забавами не вдохновляют его героев на новые эксперименты — все персонажи писателя спиваются по-старому. Поэтому рассказы Карвера кажутся особенно герметичными и знакомыми даже современному читателю — не успевая следить за каждым новым политическим лозунгом, люди перестают пытаться соотнести свою маленькую жизнь с жизнью страны. Отчасти корень такой аполитичности кроется в пресловутом биографическом методе: не получивший в должное время высшего образования, Карвер еще долго ощущал «бремя белого человека», рожденного в браке рабочего с лесопилки с алкогольными наклонностями и официантки. В этом — пропасть между Карвером и писателями его поколения: «В тот момент я почувствовал — я знал, — что жизнь, в которой я живу, сильно отличается от жизни писателей, которыми я больше всего восхищался. Я всегда воспринимал писателей как людей, которые не проводят свои субботы в прачечной самообслуживания и каждый час после пробуждения не подчиняются потребностям и капризам своих детей» (Fires: essays, poems, stories, 1983, p. 24).
Единственное, что связывает героев Карвера с реальностью, — это бесконечно включенные телевизоры на заднем фоне. Возвращаясь с работы, просыпаясь посреди ночи от кошмара, сидя на старом диване в гостях, его герои обитают в этом непрекращающемся потоке чужих слов и чужих видений: «В большинстве случаев телевизор продолжал работать вовсю и тогда, когда она возвращалась домой, а муж либо сидел на диване, либо лежал на нем все в тех же джинсах и фланелевой рубашке, которые обычно надевал, отправляясь на работу». Сложная схема побега из своей маленькой жизни в жизнь большую и чужую, однако, тоже оказывается провальной: люди в прозе Карвера не находят себе отдушины ни в чужих драмах и мыльных операх, ни в сводке новостей и часто даже выключают звук телевизоров, чтобы ничто не отвлекало их сознание от пустоты окружающего: «За электричество платил не он, и даже сам телевизор был хозяйский, так что он часто оставлял его включенным на целые сутки. Но звук он включал, только если начиналось что-то интересное. Телефона не было; но для него это не было минусом. Ему не хотелось телефона».
На вопрос о том, как писатель находит свою тему и предмет, Карвер приоткрыл завесу в интервью 1986 года: «Я никогда не начинаю с идеи. Я всегда что-то вижу. Я начинаю с образа, например с сигареты, потушенной в банке с горчицей, или с объедков ужина, оставленных на столе. Банки из-под газировки в камине, что-то в этом роде. И с этим связано чувство. И это чувство, кажется, переносит меня обратно в то конкретное время и место, в атмосферу того времени» (Alton John. «What We Talk about When We Talk about Literature: An Interview with Raymond Carver». Chicago Review, vol. 36, no. 2, 1988, p. 4–21). И такими банками и сигаретами дома в прозе Карвера наполнены под завязку — так, что хочется ходить и собирать эти зарисовки в дорожный скетчбук. Кривые зубы на телевизоре, теплое шампанское, спрятанное в бачке унитаза, книга «Тайны прошлого», всегда раскрытая на рассказе о человеке, пролежавшем в торфяном болоте две тысячи лет, или дешевая уздечка для отсутствующей лошади — все эти вещи углубляют образы самих героев, говорят о них и за них, обживают чужие старые пошатнувшиеся дома и делают прозу Карвера узнаваемой и запоминаемой. Маленькие бытовые драмы Карвера чаще всего отгорожены от мира пространством дома — и дома эти вовсе не вписываются в чуждое им слово «минимализм». Стоит, кстати, отдать должное тем, кто работал над сборником, — рассказы, по распространенному мнению западных критиков ставшие «минималистичными» благодаря вмешательству редактора журнала Esquire Гордону Лишу, опубликованы в авторских вариантах, что часто влияет даже на смысловую часть текста.
С другой стороны, прозаик продолжает извечную тему романтической литературы — противопоставление города и природы. Почти в каждом отдельном рассказе появляется «прекрасное далеко», чудесный рай — пригород, американская деревня, если ее так можно назвать. Как настоящие горожане, все герои Карвера засматриваются на поля, грезят маленьким захолустным домиком и идеями simple life:
«Здорово было ехать по извилистым проселкам. Спускался вечер, тихий и теплый, вокруг были поля, железные изгороди, коровы медленно шагали к старым коровникам. Мы видели на заборах дроздов с красными метинами на крыльях, а еще голубей, которые кружили над амбарами. Были там сады и прочая зелень, цвели полевые цветы, в стороне от дороги стояли всякие домишки.
— Вот бы и нам пожить в таком месте, — сказал я».
Но в идеальном романтическом мире гармонии с природой жить счастливо по правилам прозаика никак нельзя — аренда дома заканчивается, мотель оказывается еще одной точкой в бесконечном road trip, а в милом доме друзей живет странный павлин, мешающий ужинать. А еще райское пространство часто оказывается мужским по своей сути — как, например, пространство охоты и дикого леса в начальном рассказе «Коттедж». Все неудачи личной городской жизни, вынесенные за скобки, меркнут на фоне самой возможности идти по снежной дороге с ружьем, рыбачить, замерзать и даже сражаться.
В целом прозу Карвера тянет назвать мужской: именно мужчинам (чаще всего — мужчине средних лет, чья карьера и/или личная жизнь терпят неудачу) принадлежит большинство повествовательных голосов, а если женщинам и удается выхватить себе пару слов, то они оказываются как минимум хозяйками мотелей, что символически уравнивает их с мужскими персонажами, чаще занимающими «властные» позиции. О второй волне феминизма, бурлившей в Америке 1960-х годов, Карвер будто и не слышал: его женщины готовят после работы ужин, рожают детей, восхищаются своими мужьями. Но еще его женщины невероятно сильны в моральным смысле, они умеют прощать, умеют любить, разговаривать и помогать. Они часто недружелюбно настроены друг к другу (видимо, Карвер не очень-то верит в настоящую женскую дружбу), но на поверку оказываются куда более эмпатичными и сочувствующими.
Особый интерес в сборнике представляют диалоги между героями: коммуникация мужчины и женщины почти всегда оказывается обреченной на провал. С первого рассказа этот мотив вводится в ткань всего сборника: желание главного героя рассказа «Ложь» «маленького Паши», как в лести и ласках его называет жена, не слышать всего того, что ему услышать довелось (по злополучному стечению обстоятельств не хочет он слышать слова женщин), с забавной периодичностью воплощается в мыслях героев других произведений, а иногда даже реализуется в жизни: «Он не слушал. Не хотел слушать. Он смотрел, как движутся ее губы, пока она не договорила то, что собиралась сказать. Договорив, она сказала: „До свидания“. Потом открыла дверь и закрыла ее за собой».
К проблемным диалогам также добавляются бесконечные телефонные звонки, случающиеся так часто, что иногда возникает ощущение, что звонят герои исключительно друг другу, прорываясь через преграду страниц сборника (и даже звонят читателям — с самой обложки!). И в то время как на другой стороне земли Генрих Бёлль со всем вниманием изображает особую связь, тянущуюся между героями по телефонным линиям, которую может воспринимать одичалый Ганс Шнир из романа «Глазами клоуна», Карвер яростно постановляет: звонки по телефону никого не спасут. С завидной периодичностью телефоны звонят не вовремя, оставляют за собой гудящую тишину, дают ложные надежды.
Итого: на фоне бесконечно гудящих телевизоров, которые даже в обеззвученном режиме создают эффект присутствия, часто вдали от природы, с вечно текущими холодильниками и неработающими бачками люди не могут даже найти общие слова для разговора. Что же остается у героев Карвера в этом бесперспективном мире новой серой одноэтажной Америки и что не дает читателям права заклеймить Карвера беспросветным депрессивным атеистом?
Осколки надежды, любви и тепла, разбросанные по книге. Джойсовские «епифании», возникающие из прикосновений, из сестринских поцелуев, из безмолвного смотрения в одну сторону, «епифании», возникающие при закрытых глазах. Карвер не обрекает своих героев на унылое бесконечное существование как минимум потому, что в этом сборнике есть такие тексты, как «Маленькое хорошее дело», «Откуда я звоню», «Собор» и другие. Для прозаика добро соседствует с крайним отчаянием, или, как сказала Роулинг: «Счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету». Загнанные люди Карвера всегда смотрят на это неведомое счастье с опаской и недоверием, но оно не покинуло мир, а просто скрылось за одной из омраченных масок современной жизни.
Герои Карвера вообще много наблюдают друг за другом и часто словно бы мерцают друг в друге: двойники, отражения и повторяющиеся истории тоже ведут в текстах писателя невербальный диалог, продолжающийся помимо воли персонажей. Сам Карвер признавался, что в один период своего творчества особенно заинтересовался художественным приемом рамочной конструкции: «мне понравилась идея о том, что люди смотрят на что-то или смотрят на кого-то через что-то — такая реальная и метафорическая рамка для рассказа. И я использовал похожую рамку в нескольких рассказах, написанных примерно в то же время». В таком ключе неслучайным оказывается даже фильм-притча «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, упоминаемый в одном из рассказов сборника: приближая случайно выхваченный кадр, случайно зафиксированный «кусок жизни», теперь уже читатель вынужден взять на себя роль скрупулезного фотографа, увеличивающего до бесконечности участок фотоснимка и достраивающего сюжет из оборванных фраз и воспоминаний. В большинстве случаев излом судьбы героя остается за рамками повествования — мы видим лишь момент после, «день из жизни», где не может не угадываться между строк айсберг Хемингуэя с его «Белыми слонами», говорящими молчанием.
Сборнику, безусловно, не хватает вступительной статьи — почти неизвестному массовому читателю американскому прозаику остается надеяться, что информация из разорванных рецензий, помещенных на обложку, создаст хоть какой-то биографический контекст. Издание 1987 года выигрывает благодаря пусть краткой, но полезной статье Алексея Зверева, который пишет о живом еще тогда Карвере как о близком знакомом: рассказывает подробности его писательской и личной жизни, анализирует его кумиров и новаторский стиль, подытоживая: «За ней стоит школа реальной жизни. Сейчас Карверу сорок семь лет, он признан и житейски благополучен, но все это досталось нелегкой ценой». Впрочем, сетовать на отсутствие минимальной биографической и литературоведческой справки в современных изданиях не имеет смысла — издателям, видимо, ближе подход герменевтического погружения в текст.
В одном из интервью, отвечая на очередное сравнение с Хемингуэем, Карвер прекрасно парировал, начав анализировать стиль классика американской литературы: «Для меня предложения Хемингуэя — это поэзия. В них есть ритм, каденция. Я могу перечитывать его ранние рассказы и нахожу их такими же необыкновенными, как и раньше. Они вдохновляют меня так же, как и раньше. Это чудесная проза. Он сказал, что проза — это архитектура, а эпоха барокко закончилась. Мне это подходит». Расширив ряд писателей, он завершает: «Флобер сказал почти то же самое, что слова — это камни, из которых строят стену. Я полностью в это верю. Мне не нравятся небрежные писатели, чьи слова не имеют опоры, слишком скользкие». Слова Карвера, аккуратно пересобранные переводчиками, выстраиваются в кирпичный городок наподобие «Уайнсбурга, Огайо» Шервуда Андерсона или «Йокнапатофы» Уильяма Фолкнера, населенный людьми-гротесками. В этот город хочется возвращаться — узнавать себя в чужих окнах, подглядывать за соседской жизнью, заполнять карту новыми окрестностями и грезить о далеких местах вроде городка Портленд.