Оперный революционер
Ляля Кандаурова о биографии композитора Глюка
 Лариса Кириллина. Глюк. М.: Молодая гвардия, 2018
Лариса Кириллина. Глюк. М.: Молодая гвардия, 2018
Кто такой Глюк?
«… Он был несколько выше среднего роста, крепко сбитым, сильным и весьма мускулистым, но не тучным. Голова у него была круглой, лицо — широким, красноватым и покрытым оспинами, глаза — маленькими и глубоковато посаженными, но их сверкающий взгляд был пламенным и выразительным. Имея открытый, живой и легковозбудимый нрав, он не всегда удовлетворял требованиям приличий и установленным правилам обхождения в светском обществе. Будучи правдивым, он называл вещи своими именами и раз по двадцать на дню оскорблял чувствительный слух парижан, привыкших к льстивому и лицемерному обхождению, называемому вежливостью. Неприступный для похвал, исходивших не из уст ценимых им людей, он желал нравиться лишь знатокам. Он любил свою жену, свою дочь и своих друзей, но даже будучи с ними ласков, никогда им не льстил. Никогда не впадая в пьянство или пагубное чревоугодие, он очень любил поесть и выпить вина. Присущую ему корысть и любовь к деньгам он сам не скрывал. Равным образом он не стеснялся проявлять некоторый эгоизм, особенно за столом, где он претендовал на самые лучшие куски. Таков в общих чертах неприкрашенный портрет знаменитого Глюка. Его жена также обладала простыми, но приятными манерами, страстно любила своего мужа, заботливо следила за каждым его шагом и выглядела чем-то вроде его гувернантки, при том что полностью подчинялась его воле». Этот портрет своего героя, взятый из воспоминаний художника Иоганна фон Маннлиха, приводит в книге о Глюке Лариса Кириллина — один из важнейших российских музыковедов, крупная фигура отечественной бетховенистики, профессор, доктор искусствоведения.
Это третья книга Ларисы Кириллиной, написанная для серии «Жизнь замечательных людей»; ей предшествовали тома о Бетховене и Генделе. Около десяти лет назад она написала книгу об операх Глюка реформаторского периода, адресованную, по ее словам, скорее профессионалам. Теперь же у самого широкого круга читателей есть возможность познакомиться с биографией, перипетиями творческого пути и становлением композиторской личности великого оперного реформатора-революционера.
Для большинства людей фигура Кристофа Виллибальда Глюка занимает парадоксальное положение среди композиторов его века. Его старший современник, Гендель, в силу репертуарной моды последних лет знаком сейчас практически всем, кто хоть сколько-то интересуется музыкой: перечислить два-три названия сочинений и хотя бы основные факты биографии условному любителю оперы не составит труда. В несколько меньшей степени это касается Йозефа Гайдна, однако существует хотя бы стереотипный образ «папаши», добродушного балагура в кружевном жабо; о Моцарте и Бетховене не приходится и говорить. Глюк, хоть на его счету и есть один шлягер (почти каждый может насвистеть «Потерял я Эвридику»), остается персоной сколь безусловно значимой, столь и загадочной. Большинству читателей будет непросто назвать не задумываясь несколько опер Глюка, кроме реформаторских — главным образом «Орфея» и «Альцесты». Больше того, затруднительно будет ответить на самые простые вопросы: где прожил свою жизнь кавалер Глюк и откуда взялся этот титул? У кого он учился? Каким был его родной язык?
Во введении к книге Лариса Кириллина отмечает: «…в XX веке многим стало казаться, будто творчество Глюка сохранило исключительно историческую ценность, а в художественном отношении уже утратило свою актуальность». Действительно, может создаться впечатление, что музыка Глюка как таковая вторична по сравнению с масштабом ревизии, проведенной им в музыкальном театре. Он воспринимается как теоретик и реорганизатор от искусства, точно сами его оперы были лишь инструментом свершения реформы. Меж тем именно музыка, драматургия, особенности внутреннего устройства этих опер и стали революцией, причем потенциальной «мятежностью» отмечены не только зрелые, но даже и ранние опусы Глюка; как отмечает автор — «…счастливое сочетание искусности, вдохновения и некоторой доли дерзости, щекочущей нервы певцов и слушателей».
Как написана книга
В книге автор сочетает дотошность и всеохватность блестящей научной работы с вдохновенной влюбленностью в предмет рассказа, ощутимой в каждом слове и превращающей чтение в особенное удовольствие, поскольку читатель невольно приобщается к атмосфере увлеченности, азарта и внимания, с которыми говорит об эпохе Лариса Кириллина. Слово «эпоха» тут не случайно: повествование о биографии и музыке Глюка занимательно и тесно переплетено с рассказом о его времени, которое выступает не как театральный задник, на фоне которого разворачиваются события, но как объемная цифровая картина. Она выполнена автором настолько блестяще, компетентно и детально, что, кажется, ее можно бесконечно укрупнять и разглядывать, гулять по ней, словно по-дьявольски подробно нарисованному миру идеальной видеоигры о XVIII веке. События и исторические подробности соединяются в пазл, тщательно отобранные документальные мелочи придают описаниям объем и аромат, мельком названное имя оказывается важным спустя сотню страниц. Все «подвешенные ружья» вовремя стреляют: никакая линия не остается брошенной, ни один вопрос — неотвеченным. Закручиваются политические интриги, влияя на события в мире искусства или скрываясь в произведениях между строк; бурлят истории театральных романов и соперничеств, рассказ украшают любопытные детали вроде сумм гонораров, особенностей администрирования и финансирования театров, придворных капелл и антреприз. Эта вязь крошечных обстоятельств и запоминающихся деталей не рассеивает внимание читателя, но сложной, мелкой вышивкой окружает главное — фигуру Глюка и его оперы.
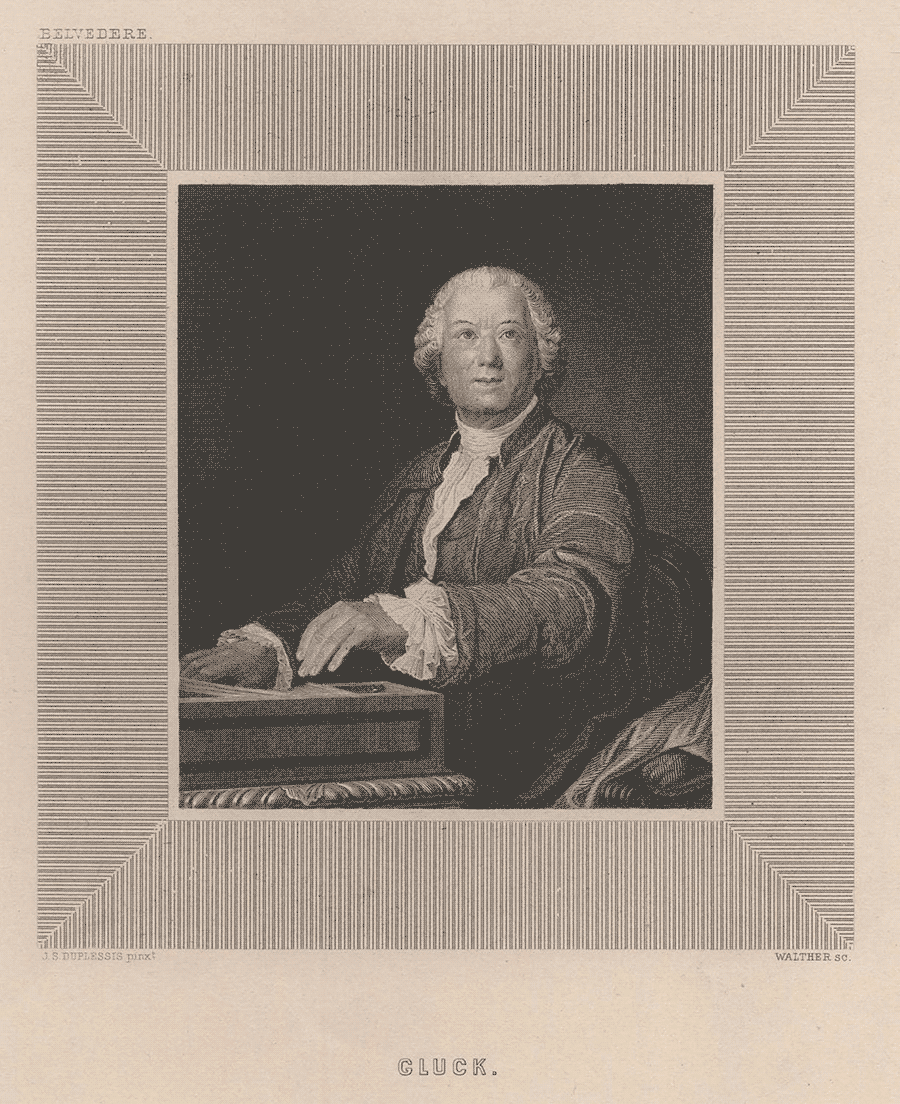
Фотографически изображая эпоху и свободно навигируя в ней, автор не требует предварительной подготовки от читателя, музыковедческой или исторической: для получения удовольствия от чтения достаточно в самых общих чертах представлять себе политический и культурный XVIII век. Вся музыкальная его история — начиная с персоналий, в разной степени имеющих отношение к Глюку, и кончая музыкальными феноменами, ключевыми понятиями и конкретными сочинениями — рассказывается обстоятельно и точно, «с нуля», однако без упрощений. «Первая половина XVIII столетия ныне считается эпохой „высокого барокко”. Достаточно перечислить имена великих композиторов, расцвет творчества которых пришелся на 1720–1750-е годы: Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Георг Филипп Телеман, Антонио Вивальди, Жан-Филипп Рамо, Доменико Скарлатти, Иоганн Адольф Хассе», — пишет автор. Почти все эти герои так или иначе появятся на страницах книги. Гендель — в качестве постепенно разоряющегося вседержителя английской оперной сцены, с которым Глюк вступит в своего рода соревнование во время своего лондонского визита. Бах — как призрак самого себя, таинственного великана немецкого барокко, «сознательно сторонившегося публичности», чьи «Страсти» Глюк мог слышать во время визита в Лейпциг на Пасху в 1747 году (если этот визит был). Жан-Филипп Рамо — как мастер эталонной французской музыкальной трагедии, исходившей из барочных феерий пращура французской оперы Жана-Батиста Люлли, но пришедшей к броскости эффектов и мощи страстей, которые делали ее сравнимой с глюковской.
Кроме этих титанов на страницах книги — масса персонажей, первостепенных для музыкальной истории, но по ряду причин не вошедших в джентльменский набор любителя классики: это Антонио Кальдара, работавший в Вене заместителем капельмейстера и писавший в шикарном, эпикурейски-ярком театральном стиле; блестящий Николо Порпора, конкурировавший в Лондоне с Генделем и взрастивший таких звезд, как кастраты Фаринелли и Каффарелли; мастер эффектного «высокого барокко» Иоганн Адольф Хассе — любимец императрицы Марии Терезии.
Хитросплетения техник, влияний и веяний внутри сразу двух «больших стилей» — барокко и классицизма — обсуждаются в книге дотошно и подробно, причем с упоминанием даже тех, что имеют к Глюку опосредованное отношение — вроде трио-сонат или первых шагов вновь изобретенного симфонического жанра. Благодаря этому у читателя складывается по-настоящему полная картина без белых пятен. Место уделено головоломному «фуксовскому» контрапункту, воскрешавшему ренессансный stile antico, и его антиподу — сдержанному и галантному раннему симфоническому стилю. Барочной опере XVII века с ее бурнокипящими сюжетами и калейдоскопом волшебных преувеличений — и пришедшей ей на смену «серьезной» опере seria с принципиальным отказом от сверхъестественного, схематизированной конструкцией и кодифицированными аффектами. Чеканной форме арий da capo, изукрашенных вокализациями, и декламационному стилю, следовавшему правилам французской просодии. Французской опере с ее одержимостью танцем и неприятием «итальянщины» (кастратов), а также комической опере во Франции в противовес итальянским буффонным интермеццо. Немецкой традиции — от гармонизаций протестантских хоралов до пассионов, — отсылки к которой превращают «Ифигению в Тавриде», поздний шедевр Глюка, в род мистического ритуального действа.
Одни из интереснейших страниц книги посвящены сравнению опер, созданных представителями разных школ на одни и те же сюжеты, либо одним и тем же композитором с разными либреттистами в расчете на разную аудиторию. В первом случае это, разумеется, всевозможные «Орфеи» со своими знаменитыми несхожими концовками, причем в качестве материала для сравнения приводится не только ранняя барочная жемчужина Монтеверди, но и «просто хорошая» опера Фердинандо Бертони на то же, что у Глюка, либретто. Сравниваются также несколько «Демофонтов», где среди авторов появляются неожиданные Вивальди и Моцарт, положивший на музыку ряд номеров этого старого либретто; самоцветный антикварный ящер «Альцесты» Люлли и пылающая античной архаикой хоровая драма Глюка на тот же сюжет. Что касается разных версий одной оперы — это вновь «Орфей и Эвридика»: широко известно, что опера Глюка существует в двух вариантах, венском и парижском, однако мало кто знает о пастиччо (оперный поджанр: «сборная солянка» с музыкой разных композиторов), изготовленном для лондонской аудитории сыном Баха — Иоганном Кристианом. Кроме того, другая реформаторская опера Глюка, «Альцеста», также существует в «парижской» версии; различия между нею и оригиналом — не просто музыковедческие тонкости, но возможность проследить за тем, какую метаморфозу претерпевает художественное сообщение, оказываясь в разной среде. Как будто этого мало, место уделено еще одной «Альцесте»: это опера малоизвестная, немецкая, но инспирированная Глюком: «„Альцеста” Глюка, которую в Вене, а затем и в Париже упрекали за чрезмерную мрачность, произвела сильное впечатление на Кристофа Мартина Виланда (1733–1813), что повлекло за собой довольно длинную цепочку музыкальных, литературных и театральных последствий (…) Как писатель Виланд не имел прямого отношения к „Буре и натиску”. Его имя прославили произведения иронического и сказочного характера (…). Тем заметнее на этом фоне выделяется его драма „Альцеста“. Вслед за Глюком и непосредственно под его влиянием Виланд [создал] в 1773 году одноименную пьесу на немецком языке, музыку к которой написал композитор Антон Швейцер. Получилось произведение в довольно редком жанре — серьезный зингшпиль, местами претендующий на трагический пафос, однако имеющий благополучную развязку. Иногда „Альцесту” Виланда и Швейцера именуют первой или одной из первых немецких опер». Этот неожиданный виток рассказа — пример того, как виртуозно автор книги связывает свой главный предмет рассказа, музыку, с литературой и театром того времени.
Весь этот разнообразный, захватывающий ландшафт описан с ясностью и доступностью, которым может позавидовать учебник, но не воспринимается как музейная диорама, поскольку населен живо выписанными персонажами. Помимо самого композитора, действующими лицами книги становятся императрица Мария Терезия и дофина (а затем королева) Мария Антуанетта; Жан Жак Руссо — желчный остроумец и автор одной из первых французских комических опер; либреттист Глюка — интеллектуал, махинатор и авантюрист Раньери Кальцабиджи. Появляются мстительная фаворитка Людовика XV Жанна Бекю и немецкий поэт Фридрих Клопшток, не говоря о колоритной веренице оперных звезд — кастратов и див с их странностями и прихотями. Век Демофонтов и Гипермнестр на оперных сценах, век самодержцев и революций, изысканных увеселений, памфлетной пикировки и просветительских утопий дает богатую почву для беллетристики. Однако абсолютно нигде Лариса Кириллина не впадает в тон исторического романа или развлекательного биографического глянца. Она говорит с позиции увлеченного ученого; все поступки, мотивации и точки зрения ее героев документально обоснованы и подкреплены источниками, глубина работы с которыми поражает. Приведены фрагменты из воспоминаний, писем, публицистических статей и других текстов, каждый из которых помещает осколок мозаики на свое место.
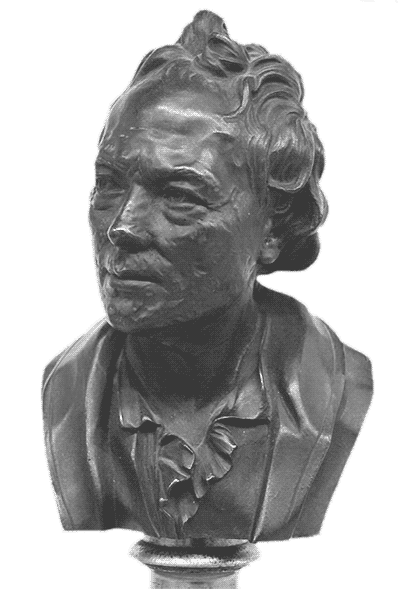 Бюст Кристофа Виллибальда Глюка
Бюст Кристофа Виллибальда Глюка
Очень редко, со сдержанностью и вкусом, автор допускает догадку или литературную подробность, предварительно предупреждая об этом читателя. Например, чтобы сделать более понятным специфический аромат тех мест, где родился Кристоф Виллибальд, сын егеря Александра Глюка, она вспоминает атмосферу «Волшебного стрелка» — романтической оперы Вебера, которой на момент жизни героя только предстояло быть созданной: «Действие „Волшебного стрелка” происходит в середине XVII века не в Германии, а в Богемии, то есть в Чехии, а основные персонажи являются княжескими егерями, то есть „коллегами” Александра Глюка. (…). Наверное, если бы Глюк прожил больше ста лет и попал бы на представление „Волшебного стрелка”, он бы тоже проникся воспоминаниями детства. Сын лесничего, несомненно, видел и шумные деревенские праздники с танцами и дружескими попойками, и стрельбу по мишеням (между прочим, этим популярным тогда спортом увлекалась даже абсолютно городская семья Моцарта!), и охотничье снаряжение, от которого попахивало порохом, кожей, дымом костра, железом и звериной кровью (…). Наверное, Александр Глюк брал с собой старшего сына во время объезда доверенных его попечениям лесных угодий. Мальчик созерцал стволы и кроны вековых сосен, могучих елей, огромных дубов, видел диких зверей, слышал голоса самых разных птиц. Это был удивительный мир, который мог поглотить человека сразу и навсегда. Но Кристоф Глюк так и не поддался лесным чарам. Он рано почувствовал, что это не его мир, и оставаться в нем надолго он не хочет и не должен». В другом случае, рассказывая о женитьбе героя, автор позволяет воображению слегка инсценировать события, сделав это тактично и не преминув прибавить документальную деталь: «…Где именно и как познакомился Глюк со своей невестой, мы не знаем. Если осторожно пофантазировать, то можно предположить, что Глюк мог снимать квартиру в доме Пергинов или по соседству с ними, или увидеть Марианну в церкви, или войти в семью невесты с помощью уважаемых общих знакомых (в частности, итальянского агента при венском дворе Джованни Пьетро Сорозины, присутствовавшего на свадьбе в качестве свидетеля со стороны жениха)». Похожее аккуратное допущение автор делает, говоря об отношениях Глюка и его воспитанницы, а позже патронессы — Марии Антуанетты: «Возможно, Мария Антуанетта могла почувствовать в его отношении к себе не только этикетную почтительность, но и отеческую теплоту, в которой она, потерявшая отца в десятилетнем возрасте, безусловно, нуждалась. Рядом с ней не было никого, кто мог бы дать ей это ощущение бережного понимания, — мать была занята государственными делами, старшие братья, особенно император Иосиф II, относились к Марии Антуанетте несколько свысока, учителя придерживались строгого этикета. Глюк не являлся царедворцем, его манеры иногда оставляли желать лучшего, но он был человеком искренним и сердечным, а духовная мощь, которой была проникнута его музыка, не могла не подействовать даже на столь легкодумное существо, как Мария Антуанетта. Глюк навсегда остался ее любимым композитором. Впоследствии, когда они встретились уже в Париже, это сыграло большую роль в судьбе Глюка: бывшая ученица стала его преданной покровительницей. В свою очередь Глюк, в доме которого подрастала приемная дочь, бывшая четырьмя годами младше Марии Антуанетты, мог испытывать к эрцгерцогине почти отцовские чувства — во всяком случае, он знал, как подобрать ключи к душе юной девушки, которую готовили к роли блистательной примадонны в европейском «концерте наций».
Жизнь Глюка
Книга начинается в баварской деревушке Вайденванг, где сын лесника, мальчик, которому предстояло стать старшим из девяти детей, «…Кристоф Виллибальд был крещен 4 июля 1714 года». Этот затерянный в лесах заповедный угол находится на стыке нескольких земель; в связи с этим «…спорным остается вопрос не только о дате и месте рождения Кристофа Виллибальда, но и о его принадлежности к тому или иному народу и государству». Фамилия Gluck ассоциируется у нас с немецким словом «счастье», да и связанность образа Глюка со столицей империи Габсбургов заставляет считать его австрийцем. В то же время местность, из которой была родом его семья, находилась вблизи Богемии — территории исторического расселения чехов: «Большая часть детства и ранней юности Кристофа Глюка прошла в Чехии, и он считал ее своей родиной. Впоследствии итальянские почитатели называли его „божественным чехом”, а французские недруги — „чешским медведем”. На титульных листах старинных рукописных копий некоторых его ранних произведений значится: „Кристофор Глюк, чех” (например, на рукописи оперы „Милосердие Тита” из собрания Парижской консерватории). „Чехом” он был и для великого итальянского либреттиста Пьетро Метастазио, и для первого биографа Моцарта, пражского профессора Франтишека Нимечека, и для других современников, упоминавших его имя в печатных публикациях конца XVIII века. В частности, в анонимной брошюре, выпущенной в 1794 году в Лозанне и посвященной жизни и смерти покровительницы Глюка, королевы Марии Антуанетты, говорилось: „Этот прославленный композитор положил на музыку „Ифигению”, которую все знатоки назвали шедевром, но она едва не была освистана противоборствующей партией. Поскольку Глюк был чехом, то, дабы принизить его произведение, оно именовалось „Ифигенией Чешской”. Эта несправедливость глубоко задевала дофину”; далее мы узнаем, что родным языком композитора, по-видимому, был чешский, но чешский устный: „…скорее всего, он с детства владел разговорным языком, усвоив его по слуху, а с весьма прихотливой чешской орфографией мог быть не в ладу. К тому же чешский язык считался простонародным, и даже богемская знать часто предпочитала изъясняться на немецком или французском”.
 Открытка с изображением Вайденванга, 1930 год
Открытка с изображением Вайденванга, 1930 год
Повествование переносится в Прагу, где Глюк недолго пробыл студентом, предварительно сбежав из родного дома (отец не разделял его увлечения музыкой) и в соответствии с романтическим каноном проведя какое-то время в одиночных странствиях по окрестным деревушкам, играя на варгане; бесспорно, олитературенный эпизод, опирающийся на собственные воспоминания Глюка, к которым исследователь внимателен, но не чересчур принимает их на веру: „…отличить в рассказах Глюка правду от вымысла не так-то легко. Возможно, юный Глюк сбегал из дома и пускался в странствия не однажды, а в 1770-х годах эти приключения слились в его памяти в единое целое”. Однако некоторые подробности этого свидетельства, по-видимому, правдивы: „Когда ему в награду перепадали свежие яйца, он продавал их, чтобы купить хлеб, — такую деталь нельзя было выдумать, и в романах той эпохи она, насколько нам известно, не встречается, стало быть, она подлинная”. Затем читатель перемещается в Вену, в начале тридцатых годов XVIII века, на глазах у молодого Глюка, обретавшую свою ослепительную барочную стать. Там Глюк, „практик-самоучка”, как отмечает автор, свободный „…от благоговейного трепета перед мэтрами”, делал первые по-настоящему профессиональные шаги, уже обнаруживая поступь революционера. Дебют композитора состоялся в Ломбардии. Интереснейший пассаж, цитирующий английского историка музыки Чарльза Берни, описывает порядки, царившие в миланском театре Реджо Дукале, и проливает свет на то, чем триста лет назад был оперный театр: „…В четвертом ярусе с обеих сторон здания имеется по столу для игры в pharo [фараон — карточная игра], что принято делать во время исполнения оперы”. „Берни также свидетельствовал, — добавляет Лариса Кириллина, — что во время представления „шум стоял ужаснейший”; публика затихала только во время исполнения двух-трех коронных арий и дуэта. Можно добавить, что рядом с театром работали пекарни, кондитерские и галантерейные магазинчики, продукцию которых можно было заказать прямо в ложу, если кому-то вдруг захотелось сладостей или срочно понадобились карнавальная маска, перчатки и прочие прелестные мелочи. Разносчики напитков, фруктов и мороженого бродили по залу прямо во время спектакля, о чем свидетельствуют некоторые исторические источники (например, акварель, изображающая представление оперы в 1741 году в туринском театре)”.
События перемещаются в Лондон, куда Глюк отправился в свите молодого князя Лобковица. Там он дебютирует с двумя пастиччо, знакомится с Генделем, дает два бенефисных концерта, на которых — очаровательная деталь — изумляет лондонцев в том числе игрой „…на 26 бокалах, настроенных благодаря соразмерному наполнению водой, в сопровождении полного оркестра, представив тем самым новый инструмент собственного изобретения”. Этот кунштюк нередко расценивается как почти цирковой номер на потеху толпе, продолжает автор, но, зная о „гастролях” совсем юного Глюка по чешским деревням с непритязательным варганом, ничему удивляться не стоит. К тому же сама идея инструмента из стекла или фарфора уже носилась в воздухе и привела в 1762 году к изобретению так называемой „стеклянной гармоники” не кем иным, как Бенджамином Франклином. Усовершенствованная гармоника представляла собой не набор бокалов, а ряд стеклянных или фарфоровых полусфер, насаженных на вращающийся стержень; звук извлекался увлажненными пальцами и производил впечатление чего-то изысканно-неземного. Впрочем, и игра на бокалах отнюдь не исчезла из практики; соответствующие наборы продолжали производиться даже в XIX веке (один из них, в частности, хранится в Музее Генделя в Галле)».
 Галле, Музей Генделя. Набор музыкальных бокалов (Лондон, середина XIX века)
Галле, Музей Генделя. Набор музыкальных бокалов (Лондон, середина XIX века)
Возвращаясь из Лондона, читатель некоторое время гастролирует с Глюком и несколькими антрепризами (возможно, заезжая в Лейпциг, где Глюк мог столкнуться с музыкой Баха, а то и с ним самим), следит, как герой книги переживает первый крупный успех в Вене с «Узнанной Семирамидой», где в образе вавилонской царицы «узнавалась» Мария Терезия; неосмотрительно ввязывается в амурную интригу с печальными последствиями; женится (автор целиком приводит прелюбопытный текст брачного контракта, подписанного 3 сентября 1750 года в Вене).
Большой интерес представляет рассказ о сочинениях Глюка в жанрах, которые мы не ассоциируем с оперным реформатором, мастером внушительной драмы: такова ювелирная оперная безделушка «Китаянки», где три девушки — декоративные статуэтки в стиле шинуазри — разыгрывают друг перед другом сцены на античные мотивы. Сюда же можно отнести и комические оперы, написанные Глюком при венском дворе для французской труппы по инициативе франкофила графа Дураццо, главного директора придворных сцен в австрийской столице. Соприкосновение Глюка с французской комической оперой дает повод для рассказа об истории жанра, где есть чудесные эпизоды: «Комедия с музыкой нашла прибежище в ярмарочных театрах в парижских предместьях Сен-Жермен и Сен-Лоран, но и там власти ее преследовали постоянно менявшимися требованиями запретительного характера. То ограничивали число актеров, выступавших на сцене, то предписывали использовать в спектакле не более двух музыкантов (стало быть, ни о каком оркестре уже речи быть не могло), то запрещали исполнять музыку со словами, поскольку это, дескать, прерогатива королевской Оперы. Изворотливые комедианты тотчас находили способы остроумно обходить все нелепые запреты — например, под звуки известных всем мелодий актеры выходили на сцену с плакатами, на которых был написан текст, а пели зрители, которым это было не запрещено. Так оно выходило даже еще потешнее».
Оперная революция
Главы, посвященные реформаторскому периоду — вроде бы лучше всего знакомому большинству читателей, — рассказывают об истоках и смысле свершившейся оперной революции все с той же фундаментальностью, глубиной и свежестью, без тени отрепетированного педагогического ригоризма (можно представить, сколько раз их автору, профессору Московской консерватории, приходилось излагать содержание именно этих глав на лекциях). Рассказ начинается с балетного искусства, радикальной хореографии знаменитых Новерра и Анджолини, затем переходя к «Очерку об опере» Франческо Альгаротти — одному из программных документов эпохи, возвестившему о необходимости реформы в опере. В нем были изложены требования внятности, ясности, динамизма, убедительной и цельной драмы, не разбитой на концертные номера и не подчиненной вокальному щегольству суперзвезд-кастратов; гармонии художественных средств — сольного пения, хора и танцев. Эти требования были революционными: опера seria представляла собой потоковый коммерческий продукт, производившийся по нерушимому эстетическому ГОСТу, особенно в Италии. Можно представить себе, насколько, если «…в Италии сама мысль о том, что действие в опере может развиваться непрерывно, не членясь на законченные номера, а хор и балет должны составлять неотъемлемую часть спектакля, воспринималась как призыв к реформе». Архитектором жанра оперы seria был легендарный либреттист Пьетро Метастазио: «…при всем разнообразии сюжетов его опер-сериа, они строились на основе определенного канона, граничащего со схематизмом. (…) первая пара влюбленных, вторая пара, отец-тиран, наперсник — все эти функции допускают ряд комбинаций, ограниченных жесткими требованиями сценического правдоподобия (никаких богов, чудес и чудовищ), и этикета (никакого смешения высокого и низкого стиля в речах персонажей)». В классическом тексте, приведенном в книге полностью — фактически манифесте реформы Глюка и Кальцабиджи, который был замаскирован под посвящение «Альцесты» великому герцогу Тосканскому, — о сути реформы говорится так: «…итальянская опера оказалась изуродованной и, являясь некогда наиболее великолепным и прекрасным из всех сценических зрелищ, превратилась в самое смешное и жалкое. Я задумал возвратить музыку к ее истинной цели — придавать выразительность поэзии и усиливать драматические ситуации, не прерывая действие и не ослабляя его ненужными избыточными украшениями». Успешное достижение этой цели, для которого потребовалась немалая дерзость и великий талант, — главная заслуга Глюка перед музыкальной историей, и та причина, по которой, как пишет автор, «…оперное искусство второй половины XVIII века делится на период до Глюка и после Глюка». Однако Лариса Кириллина отмечает, что важно не забывать, что опера была коммерческим продуктом, и идеализировать реформу, воображая, что после «Орфея и Эвридики» твердыня жанра seria рухнула в одночасье. Сам Глюк, сочиняя то, что ему заказывали, «…в течение пяти лет создавал произведения, которые либо совсем не являлись реформаторскими (…) либо имели к реформе опосредованное отношение»; интересно также отметить пассаж, связанный с тем, что реформа, возможно, не являлась единоличным начинанием Глюка и его соратников, но «носилась в воздухе»: здесь автор ссылается на статью о Пармском оперном театре музыковеда И. П. Сусидко с говорящим названием «Кто и где начал реформу Глюка?» и замечает, что примерно одновременно с реформой «…сразу в нескольких городах, имевших придворные оперные театры — Парме, Штутгарте, Мангейме, Санкт-Петербурге, — начали ставиться произведения, сильно отличавшиеся от традиционных образцов своего жанра».
 Кристоф Виллибальд Глюк. Художник: Жозеф Сиффред Дюплесси
Кристоф Виллибальд Глюк. Художник: Жозеф Сиффред Дюплесси
После анализа «трилогии» опер, созданных в тандеме с Раньери Кальцабиджи («Орфей и Эвридика», «Альцеста», «Парис и Елена»), мы узнаем историю племянницы Глюка — Нанетты, удочеренной бездетным композитором и умершей от оспы на семнадцатом году жизни. Затем отправляемся в Париж, где Глюк вступил в «состязание» с наследием Рамо, которого мог еще застать в живых, и великого ископаемого — Люлли. Французская опера, «рай для глаз и ад для слуха», по выражению Карло Гольдони, также нуждалась в переменах: прекрасны ее сардонические описания Руссо, приведенные в книге. Однако «в Париже речь шла о «…коренном преобразовании самого музыкального театра, после которого старая его модель навсегда утратит актуальность и станет лишь достоянием воображаемого исторического музея»; поэтому применительно к парижским операм Глюка автор пользуется уже не словом «реформа», а «революция». Здесь речь идет об «Ифигении в Авлиде», на репетициях которой упрямый, далекий от придворной светскости Глюк вступает в огненные перепалки с артистами, приведенные по воспоминаниям Маннлиха, парижской версии «Орфея» и «Армиде», повлекшей за собой дискуссии и интриги, накал которых, как может показаться со стороны, не соответствует возвышенному и благопристойному искусству оперы. Острота переживаний французов в отношении радикальных новаций Глюка не притупилась и полтораста лет спустя. Особенно впечатляют приведенные автором слова Клода Дебюсси, веком позже сравнивавшего пришлого «немца» Глюка, посягнувшего на священное французское искусство, со своим современником, вторым великим революционером оперной истории — Рихардом Вагнером: «В интервью 1904 года Дебюсси говорил: „Куперен, Рамо — вот настоящие французы. Все испортил этот зверь Глюк. До чего же он надоедлив, до чего педантичен, до чего напыщен! […] Никогда этот человек не бывает приятным! Я знаю только одного музыканта, такого же невыносимого — это Вагнер”». Другая, поверхностная, но любопытная параллель с Вагнером заключается в том, что Глюк также мог стать автором оперной тетралогии: на свет могла бы появиться опера «Электра», «… и тогда в творчестве Глюка возникла бы настоящая оперная трилогия („Ифигения в Авлиде” — „Электра” — „Ифигения в Тавриде”), а если учитывать также „Париса и Елену”, то даже тетралогия. Но „Электра” написана не была».
«Ифигения в Тавриде», поздняя глюковская вершина, разбирается в книге очень подробно; начиная с обстоятельств создания, особенностей неслыханно радикальной драматургии, музыки, парадоксально приближенной к немецкой ораториальной традиции, и кончая мрачной мистикой, окутывающей это сочинение: «Опера, завершающаяся цареубийством, посвящена Марии Антуанетте». Финальные главы представляют собой «крупные планы» историй и отношений, связывавших героя книги с важными современниками: своего рода «Глюк и…». Любопытна история его знакомства с великим князем Павлом Петровичем, будущим императором Павлом I, пребывавшим в Вене инкогнито с женой Марией Федоровной под именем «супругов Северных»; и особенно хороша история оперной мистификации, которую провернул престарелый Глюк за пять лет до смерти совместно с Антонио Сальери: «…дирекция парижской Оперы решила заказать Глюку очередное произведение (…). Речь шла о музыкальной трагедии по драме Кальцабиджи „Гипермнестра, или Данаиды”, написанной поэтом по просьбе Глюка еще в 1770-х годах. (…) Сочинить эту оперу Глюк был уже не в силах. Фактически он передал заказ Сальери, работой которого руководил на каждом этапе». Позже, пишет Лариса Кириллина, Глюк «не раскрыл интригу до конца, но косвенно дал понять, что с авторством „Данаид” дело обстоит не совсем чисто, поскольку самолично снизил требуемый гонорар с 20 тысяч ливров до 12 тысяч. На Глюка, не склонного разбрасываться деньгами, это было совсем не похоже». Деликатный вопрос окончательно прояснился только через год, когда Глюк написал в письме старому знакомому, либреттисту французской версии «Альцесты» дю Рулле, что «…музыка „Данаид” всецело принадлежит г-ну Сальери и что я не участвовал в ее создании никак, помимо советов, которыми он благоволил воспользоваться в силу моего к нему уважения и отсутствия у него необходимого опыта».
Как любая книга о музыке, блестящая работа Ларисы Кириллиной окажется по-настоящему оценена читателем, который не поленится найти и послушать упомянутые и разобранные в ней сочинения. Для тех, кому тема известна мало, ее можно читать не только как книгу о Глюке, но как захватывающий путеводитель по музыкальному XVIII веку, снабжающий ясной системой ориентиров; для искушенных читателей она наполнена интересными и важными подробностями, которые могли быть упущены или неизвестны. В недавнем интервью «Горькому» Лариса Кириллина упомянула об отсутствии на русском хорошей книги о Йозефе Гайдне и возможном своем желании исправить это. Остается надеяться, что оно окажется осуществленным.