Он пережил всех
Рецензия на «Гёте» Рюдигера Сафрански
Рюдигер Сафрански. Гёте: жизнь как произведение искусства. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. Перевод с немецкого Ксении Тимофеевой
Последний универсальный гений
Конечно, Сафрански не первым наградил Гёте столь звучным титулом. Автор «Фауста» прожил такую долгую жизнь, что она не укладывается в стандартную историко-культурную периодизацию: он поздний современник Вольтера и Руссо, главных фигур эпохи Просвещения; свидетель становления классической немецкой философии, хорошо знакомый с основными ее представителями; вдохновитель первых романтиков и критик романтизма, под конец жизни он застал даже пресловутый переход к реализму — но ни в один из этих пунктов записать Гёте не удастся. Он был сам себе и стилем, и эпохой, и «творческим методом», и Рюдигер Сафрански пишет не просто биографию литератора — он раскрывает жизнь Гёте как произведение искусства, в котором житейские частности неотделимы от творческих высот. Сафрански не согласен с Ницше, считавшим, что «это событие в истории немецкой мысли и духа… не повлекло за собой никаких последствий» — напротив, «История Германии после [Гёте] не приняла более счастливый оборот, но в другом отношении его земное существование не прошло бесследно: он дал пример удавшейся жизни, соединившей в себе духовное богатство, творческую силу и жизненную мудрость».
Еще для европейской культуры Гёте принципиально важен тем, что он, как и Руссо в «Новой Элоизе», задал новые модели эмоционально-чувственного поведения — начиная со «Страданий юного Вертера», из которых, как из «Шинели» Гоголя, вышло целое поколение романтиков с их установкой на жизнетворчество. Сафрански не раз подчеркивает: Гёте осознавал, что «литературные произведения — это одно, а его жизнь — другое», однако страстно желал сделать из своей жизни произведение (особенно заметно это в написанной им на склоне лет автобиографии под названием «Поэзия и правда», к которой автор книги неоднократно обращается).
«У каждого нового поколения есть возможность лучше понять себя и свою эпоху, посмотрев в жизнь Гёте, как в зеркало. Эта книга — попытка понять себя через описание жизни и творчества гения и изучение на его примере возможностей и границ искусства жизни», — так формулирует свою сверхзадачу Сафрански, в то же время выбирая вполне традиционный для биографиста набор первоисточников: письма, дневники, записи бесед и свидетельства современников последнего универсального гения. Разумеется, отражения событий биографии Гёте обнаруживаются и в его произведениях. Самым ярким примером здесь, безусловно, является суд и казнь детоубийцы Сюзанны Маргареты Брандт, история которой стала для Гёте личным опытом, который лег в основу трагедии Гретхен в «Фаусте». Но Сафрански, конечно, ни в коем случае не хочет сказать, что автор наивно переносит происходившее с ним в свою литературу — скорее это один из путей преображения правды в поэзию.
Между огненным мечом и Люцифером
Первые главы книги Сафрански, возможно, будут не самыми информативными для тех, кто знаком с «Поэзией и правдой», — этот текст неизбежно присутствует в повествовании биографа о раннем детстве Гёте, о его студенчестве, о знакомстве с кругом «Бури и натиска», о создании и публикации «Вертера», «Геца фон Берлихингена» и других ранних произведений.
Но Сафрански уже тут не упускает возможность продемонстрировать свой критический метод. Например, подробно описанный в «Поэзии и правде» неудавшийся лейпцигский роман с Кетхен Шёнкопф помогает увидеть, как биографические факты преломляются в произведениях молодого Гёте и как он смотрит на них впоследствии. В одном из писем он сообщал: «Мы расстались, мы счастливы… Впрочем, с моей стороны нет. Я по-прежнему люблю ее, так сильно, Господи, так сильно». Как отмечает Сафрански, в «Поэзии и правде» складывается иная картина: «Здесь Гёте изображает себя мучителем вроде Эридона, которым „овладела злая охота устраивать себе развлечение из страданий возлюбленной, унижать ее преданность произвольными и тираническими причудами”». Весной 1768 года, вскоре после незадавшегося романа, Гёте пишет комедию «Капризы влюбленного», в которой переосмысляет случившееся и «излечивается от ревности». Таким образом, получается трехмерная картина: Гёте в настоящем (письма и другие документы), Гёте в произведениях того же времени и Гёте в будущем («Поэзия и правда»).
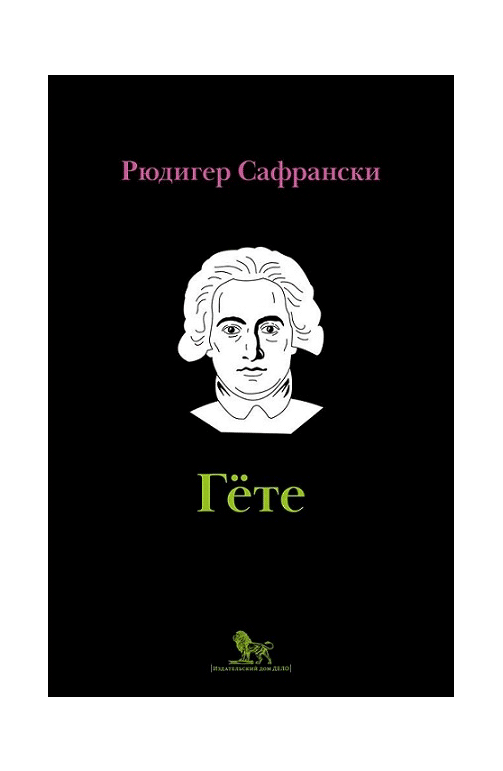 Уникальность жизненного пути Гёте не только в том, что он прожил 82 года. Этот чрезвычайно длинный по меркам его времени срок еще и позволил Гёте стать свидетелем культурного слома, который произошел на рубеже XVIII–XIX веков. Вольтер, в полемике с которым рождаются первые произведения Гёте, и Бальзак или Стендаль, которыми зачитывается Гёте в последние годы жизни, — фигуры из разных культурных вселенных, и между ними проходит «огненный меч на границах культур», как писал филолог Александр Михайлов. Гёте счастливо избежал встречи с этим мечом, собравшим внушительную жатву. Виланд, Гердер, Шиллер, Новалис и большинство участников Йенского кружка романтиков — Гофман, Байрон, Фихте, Гегель, Наполеон, веймарский герцог Карл Август — все эти люди, символы своей эпохи, умерли раньше Гёте, хотя многие из них были существенно младше его. Так что в начале 1830-х годов, когда был дописан «Фауст», Гёте оставался чуть ли не единственной живой звездой европейской литературы, взошедшей еще до Французской революции; про него можно с полным основанием сказать: он пережил всех.
Уникальность жизненного пути Гёте не только в том, что он прожил 82 года. Этот чрезвычайно длинный по меркам его времени срок еще и позволил Гёте стать свидетелем культурного слома, который произошел на рубеже XVIII–XIX веков. Вольтер, в полемике с которым рождаются первые произведения Гёте, и Бальзак или Стендаль, которыми зачитывается Гёте в последние годы жизни, — фигуры из разных культурных вселенных, и между ними проходит «огненный меч на границах культур», как писал филолог Александр Михайлов. Гёте счастливо избежал встречи с этим мечом, собравшим внушительную жатву. Виланд, Гердер, Шиллер, Новалис и большинство участников Йенского кружка романтиков — Гофман, Байрон, Фихте, Гегель, Наполеон, веймарский герцог Карл Август — все эти люди, символы своей эпохи, умерли раньше Гёте, хотя многие из них были существенно младше его. Так что в начале 1830-х годов, когда был дописан «Фауст», Гёте оставался чуть ли не единственной живой звездой европейской литературы, взошедшей еще до Французской революции; про него можно с полным основанием сказать: он пережил всех.
Но если в тех же «Разговорах» Эккермана Гёте последних лет жизни во многом кажется человеком, соответствующим своей расхожей репутации баловня судьбы, небожителя и эпикурейца, то в биографии Сафрански это «пережил всех» разворачивается в настоящую экзистенциальную драму. В том, что так рано ушли из жизни вдохновлявшиеся «Вертером» и «Театральным призванием Вильгельма Мейстера» Новалис и компания, которых Гёте именовал «новыми стихоплетами», вполне можно усмотреть некую романтическую иронию. По сути, мимолетным эпизодом биографии Гёте осталась и эпоха Наполеона. После их знаменитой встречи, во время которой Бонапарт признался, что семь раз читал «Вертера», Гёте гордо носил орден Почетного легиона, но затем без особого труда вписался в реалии Реставрации, а летом 1821 года, когда новость о кончине Наполеона на острове Святой Елены достигла Европы, 72-летний Гёте познакомился со своей последней любовью, семнадцатилетней Ульрикой фон Леветцов (в 1823 году она откажется выходить за него замуж). Но уход Шиллера, Виланда, Карла Августа, жены, матери и сына становились для Гёте все более тяжелыми утратами: единственный спутник жизни, который остался с ним до конца, — «Фауст», завершенный за считанные месяцы до смерти.
«Смерть Шиллера [в мае 1805 года] стала глубокой цезурой в жизни Гёте, — пишет Сафрански. — Цельтеру он писал: „По совести, мне следовало бы начать новую жизнь”, но для этого он, видимо, был уже слишком стар… Отныне Шиллер еще в большей степени, чем прежде, становится для него мерилом для оценки отношений с другими людьми». Однако разрешается этот кризис новым этапом жизнетворчества. Если первые годы XIX века были не самыми продуктивными в плане писательства, то вскоре после смерти Шиллера Гёте возвращается к «Фаусту», начинает работу над «Годами странствий Вильгельма Мейстера», из которых вырастает его самый зашифрованный роман «Избирательное сродство», завершает «Учение о цвете», начинает публиковать «Поэзию и правду».
 Георг Мельхиор Краус. Портрет Иоганна Гете в 1775 году
Георг Мельхиор Краус. Портрет Иоганна Гете в 1775 году
Этот творческий взлет сопровождался многочисленными любовными историями и продолжался до 1823 года, когда Гёте встретил пианистку Марию Шимановскую, которая посетила его в Веймаре: «В ее честь Гёте устроил большой прием, а на следующий день встретился с ней за ужином уже в более узком кругу. Попрощавшись, она покинула дом Гёте, и в этот момент его охватила паника. Он попросил канцлера Мюллера догнать красавицу-полячку и снова пригласить ее в дом. Мюллер выполнил его просьбу, и Шимановская с сестрой вернулись. Тягостная сцена прощания. Гёте старается сохранить самообладание. „Но, несмотря на попытки обратить все в шутку, — пишет Мюллер, — он не мог сдержать слез, набегавших на глаза, молча обнял ее и сестру и еще долго провожал их любящим взором, пока они удалялись от него длинной открытой анфиладой комнат”. Это было прощание мужчины, понимающего, что он теперь — старик».
С 1823 года начинаются и заметки Эккермана, ставшие затем «Разговорами с Гёте», — но в этой блестящей книге совсем нет того трагического ощущения, которое сопровождает последние страницы биографии Сафрански, мартиролог с именами тех, кого Гёте потерял на склоне лет. Практически не обращаясь к «Диалогам», Сафрански цитирует другие источники, не оставляющие сомнений в том, что к концу жизни Гёте подошел отнюдь не с тем историческим оптимизмом, который принято видеть в финале «Фауста». «Как не остановить паровые машины, точно так же невозможно и замедлить нынешние нравы: оживленная торговля, шелест бумажных денег, новые долги ради уплаты уже имеющихся — все это чудовищные начала… Величайшую беду нашего времени, которое ничему не дает созреть, я вижу вот в чем: оно каждый миг проедает миг предыдущий… Никто не вправе радоваться и страдать, иначе как для забавы остальных», — в этом письме Гёте характеризует одному из своих родственников окончательно вступившую в свои права эпоху Модерна словом «велоциферический»: он сам его изобрел, соединив латинское velocitas (ускорение) с Люцифером. «Миром правит путаная купля-продажа и вносящая еще большую путаницу мораль… А у меня не находится более насущных дел, нежели развивать то, что во мне было и осталось, и оттачивать свое своеобразие», — признавался он в своем последнем письме, отправленном Вильгельму фон Гумбольдту за пять дней до смерти.
От Вертера к Фаусту и обратно
Как известно, Гёте-писатель был невероятно плодовит, и о мастерстве Рюдигера Сафрански-биографа говорит уже то, что на протяжении 650 страниц книги он смог разобрать почти каждое значимое его произведение, наибольшее внимание уделив, конечно, двум самым известным, «Вертеру» и «Фаусту»: две соответствующие главы стали смысловыми кульминациями книги.
В «Страданиях юного Вертера» принято видеть автобиографические черты, о чем сам Гёте говорил в «Поэзии и правде»: он повторил в своем первом романе «недавнюю свою жизнь» и впервые нашел ей «поэтическое применение». Но основой для книги послужила не только знаменитая любовная история с Лоттой Буфф в Вецларе в 1772 году, но и последовавшие за ней отношения Гёте с замужней Максимилианой Брентано, матерью Клеменса Брентано, представителя гейдельбергских романтиков. «Разбушевавшуюся стихию», из которой в начале 1774 года родился «Вертер», нужно искать именно здесь, а не в уже отзвучавшей истории с Лоттой, настаивает Сафрански. Сюжетный каркас роману дали отчеты по самоубийству дипломатического секретаря Вильгельма Иерузалема, с которым Гёте был знаком.
Но для самого Гёте подлинный смысл романа, сделавшего его знаменитым в неполных 25 лет, раскрылся лишь со временем: «По прошествии лет сам Гёте понимает, что в центре этой истории находятся не любовные переживания, а „отвращение к жизни”. По сути, это и есть главная тема романа. Увлечения женщинами — лишь внешний повод. В центре — феномен самоубийства. В те дни им [Гёте] овладело taedium vitae — об этом он сорок лет спустя напишет Карлу Фридриху Цельтеру после самоубийства его сына. Люди, страдающие этим недугом, достойны сочувствия, а не порицания».
Именно самоубийство становится связующим звеном биографии Гёте: лекарством от «самоубийственных мыслей» во время романа с Лоттой (в них он признавался в своих письмах того времени) служит активная деятельность. Гёте возвращается к этому «истоку художественного творения» в 1812 году, работая над третьим томом «Поэзии и правды», где описывается создание «Вертера», — и одновременно узнает о самоубийстве приемного сына Цельтера, лучшего друга последних лет, который заменил ему Шиллера и пережил Гёте всего на несколько дней. «Так переплелись прошлое и настоящее, рассказанное время и время рассказа», — резюмирует Сафрански.
С «Фаустом» все обстоит иначе: Гёте работал над ним на протяжении всей жизни. Текст «Прафауста», обнаруженный в 1886 году, был сочинен еще в юности, а последняя точка трагедии была поставлена в июле 1831 года. «Дальнейшую мою жизнь я отныне рассматриваю как подарок, и теперь уже, собственно, безразлично, буду ли я что-нибудь делать и что именно», — признавался Гёте Эккерману.
 Однако Гёте не спешил издать «Фауста» при жизни. Как полагает Сафрански, он не был уверен в том, что современники правильно поймут эстетику и мораль этого произведения: «Фауст и Мефистофель. Что касается дьявола, то вообще-то в гётевской картине мира… дьявола не существовало. В дьявола, как и в бога, нужно верить, а Гёте не верил ни в черта, ни в сверхъестественного бога. Всю свою жизнь он оставался верен философии Спинозы и ее главному принципу — Deus sive natura [Бог, или природа]».
Однако Гёте не спешил издать «Фауста» при жизни. Как полагает Сафрански, он не был уверен в том, что современники правильно поймут эстетику и мораль этого произведения: «Фауст и Мефистофель. Что касается дьявола, то вообще-то в гётевской картине мира… дьявола не существовало. В дьявола, как и в бога, нужно верить, а Гёте не верил ни в черта, ни в сверхъестественного бога. Всю свою жизнь он оставался верен философии Спинозы и ее главному принципу — Deus sive natura [Бог, или природа]».
Мефистофель в интерпретации Сафрански оказывается вовсе не духом зла, а воплощением принципа реальности, к которому он и хочет подвести метафизика Фауста: нужно отказаться от тоски по трансцендентному и искать конкретных, ощутимых удовольствий. В этом взаимодействии метафизика Фауста и реалиста Мефистофеля, как утверждает Сафрански, раскрываются внутренние механизмы Модерн, и тем самым трагедия Гёте оказывается медитацией на тему того самого культурного слома, о котором говорилось выше. Если до рубежа XVIII и XIX веков здание культуры выстраивалось по вертикали, то теперь оно перешло исключительно в горизонтальное измерение.
«Мы становимся свидетелями того, как вертикально направленное устремление переводится в горизонтальную плоскость и за счет этого приобретает огромный исторический потенциал, — пишет Сафрански в главе о „Фаусте”. — Модерн больше не стремится ввысь, поняв, что небеса пусты. Бог умер. Но эта безмерная страсть, которая в далекие времена привела к тому, что люди придумали бога, ибо только идея бога казалась достаточно просторной, чтобы вместить все богатство человека, эта возвышенная страсть в эпоху модерна была секуляризована, что повлекло за собой совершенно неожиданные последствия: о человеке теперь думали как о существе малозначительном, но при этом его свершения поражали своими масштабами. Страсть, прежде обращенная к богу, превратилась в страсть к исследованию и покорению мира. Именно это и было движением „вовне”. Вместо того чтобы пытаться приблизиться к богу, человек решил обойти всю землю. Взгляд современности устремлен не в космос, а на этот мир. В споре Фауста с Мефистофелем и в последующих стремительно разворачивающихся событиях на наших глазах совершается значимое превращение метафизического энтузиазма в двигатель цивилизационного покорения мира. Благодаря помощи Мефистофеля Фауст пользуется успехом у женщин, приводит в порядок государственные финансы, дает народу хлеба и зрелищ, становится удачливым полководцем и, наконец, настоящим колонизатором. По его приказу люди строят дамбы и отвоевывают у моря землю. В школе Мефистофеля Фауст становится метафизиком со взором, обращенным к физической стороне жизни; он не возносится над этим миром, а растворяется в нем с присущей ему страстью».
Но наивно думать, что вторая часть «Фауста» — гимн творческой силе человека. Напротив, в сценах будущего Гёте рисует малоприятные пророческие картины того, что еще эпоха Модерна может сделать с человеком. Это и неудачный эксперимент с гомункулом, и сцена с бумажными деньгами, которые ведут к инфляционному краху, и технологии массовой пропаганды в эпизоде, где Фауст и Мефистофель в роли советников императора созывают армию призраков, которая обрушивается на противника и обращает его бегство.
Большинство интерпретаторов, отмечает Сафрански, прославляли внутренний свет, о котором говорит Фауст в одной из последних сцен трагедии: «Вокруг меня сгустились ночи тени, / Но свет внутри меня ведь не погас». Однако Гёте, по мнению автора, показывает без прикрас, как жалко заканчивается жизнь Фауста перед вознесением на небо и что этот прославленный внутренний свет не уберегает его от жестокого заблуждения. Услышав стук лопат, Фауст думает, что рабочие осуществляют его проект, который должен осчастливить человечество, отбирая у моря землю, но на самом деле они роют ему могилу. «Земная кончина Фауста перед окончательным концом — довольно жалкое зрелище. Это смерть прожектера, погруженного в свои мечты и не замечающего, как приближается его собственная погибель», — пишет Сафрански, а тот самый свет оказывается «порожденьем тьмы ночной»: мир возник из Ничего и обречен снова стать Ничем.
В конечном итоге и вознесение Фауста на небо в интерпретации Сафрански оказывается случайностью, окрашенной раблезианской иронией: «Мефистофель устраивает засаду, чтобы похитить у ангелов бессмертную душу Фауста. В самый неподходящий момент он отвлекается, залюбовавшись аппетитными формами ангелов („Сложенье их еще приятней сзади”). Из-за своей похотливости Мефистофель упускает удобный случай, и вот уже ничто не мешает вознесению на небо. Спасение Фауста становится возможным благодаря не вовремя проснувшемуся сладострастию».
Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина
Столь неканоничное прочтение «Фауста» хорошо укладывается в общий замысел книги Сафрански — уйти от шаблонного представления о Гёте как о «титане мысли», в котором все, что связано с его фигурой, превращается в пресловутый «пир духа». Эта установка особенно заметна на тех страницах, где идет речь идет о Гёте — государственном деятеле.
 Кольбе Генрих Кристоф. Гёте, поэт и художник, перед Везувием, 1826 год
Кольбе Генрих Кристоф. Гёте, поэт и художник, перед Везувием, 1826 год
На первый взгляд, чиновничья карьера Гёте как чиновника была блестящей: уже к 33 годам он возглавлял в Веймарском герцогстве Военную коллегию, заведовал дорожным строительством и горными рудниками, отвечал за финансы и руководил учреждениями культуры — театром, школой рисования и т. д. Но успешно воплотить в жизнь удалось лишь немногие из его начинаний на государственном поприще — например, сократить армию герцогства с 500 до 136 человек, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на его бюджет. Эти цифры сами по себе говорят о микроскопических масштабах хозяйства, которым заведовал Гёте, поэтому неудивительно, что многие затеянные им мегапроекты — строительство дорог, разработка рудников и т. д. — обернулись фиаско. В этом контексте знаменитое итальянское путешествие Гёте, открывающее зрелый период его писательства, кажется отнюдь не творческой командировкой, а попыткой сбросить груз проблем, которые сам Гёте и вызвал к жизни.
«Этой шахте, которую мы сегодня открываем, суждено стать дверью — через нее мы спустимся к потайным сокровищам земли, через нее мы извлечем на свет божий глубоко запрятанные дары природы», — заявил Гёте, открывая новую шахту в Ильменау в 1784 году. Дальнейшее развитие событий оказалось плачевным: «Еще до отъезда в Италию проведение штольни потребовало новых капиталовложений, Гёте пришлось успокаивать старых инвесторов и искать новых, что еще больше портило ему настроение. Находясь в Италии, он напрасно ждал хороших новостей из Ильменау. Только в 1792 году горнорабочие наконец наткнулись на первый рудоносный пласт, который, как выяснилось вскоре, оказался очень низкого качества. Добраться до следующего пласта в 1796 году помешало обрушение и затопление штольни, во время которого несколько человек погибли. Несмотря ни на что, работы на рудниках не останавливались. На одной шахте руду добывали вплоть до 1812 года — лишь тогда рудники были окончательно ликвидированы. С экономической точки зрения это был полный провал, стоивший огромных денег и не принесший никакой прибыли». Огромный перерасход бюджета обнаружился и в дорожном строительстве, в связи с чем Гёте был вынужден объявить о ликвидации созданной для этих целей комиссии.
Провалы явно охладили модернизаторский пыл Гёте — на закате лет в житейских делах он руководствовался чистой прагматикой. После Венского конгресса служба у Карла Августа, получившего титул великого герцога, становится для Гёте синекурой: жалованье росло, объем работы уменьшался. Тем не менее Гёте обратился к герцогу с просьбой снизить для него налоги, поскольку многочисленные приемы (каждый более или менее известный гость Веймара считал своим долгом посетить его дом) требовали немалых затрат. «При доходах, которые в иной год — с учетом авторских гонораров — достигали десяти тысяч талеров, Гёте отдавал в казну менее ста пятидесяти талеров в год, — отмечает Сафрански. — Несмотря на это, он считал необходимым строго следить за своими расходами и очень досадовал, что, оставаясь официально гражданином Франкфурта, был обязан отчислять ежегодный взнос и этому городу. В конце концов он подал ходатайство о выходе из союза горожан. Его имя вычеркнули из списка, за что он без каких-либо возражений уплатил тридцать крейцеров».
Превращение Гёте в «небожителя», конечно же, не осталось без внимания его поздних современников — в момент завершения «Фауста» в Германии многие воспринимали автора трагедии как живой анахронизм. Как выяснил Сафрански, Вольфганг Менцель, один из самых влиятельных литературных редакторов Германии того времени, умудрился полностью проигнорировать смерть Гёте в своей «Литературной газете»: по его мнению, это событие не заслуживало даже маленькой заметки. Но самого Гёте такое отношение, конечно, беспокоило меньше всего. «Жить долго — значит многих и многое пережить: любимых, ненавистных, безразличных людей, королевства, столицы и даже леса и деревья, которые мы сажали и взращивали в юности, — говорил он в одном из писем, написанных в последние годы жизни. — Мы переживаем самих себя и испытываем большую благодарность, даже если нам оставлены лишь немногие дары тела и духа… Всю свою жизнь я был честен с собой и другими и за всеми земными делами имел только самые высокие устремления… Так не будем же беспокоиться о будущем!»