Офицер по сомнениям: «Анкета» Эрнста фон Заломона
Рецензия на русский перевод модернистского романа о денацификации
Эрнст фон Заломон. Анкета. СПб.: Владимир Даль, 2019. Перевод с немецкого Леонтия Ланника
«Анкета» Эрнста фон Заломона объемом почти в тысячу страниц — своеобразная энциклопедия немецкой жизни в первую половину XX века от человека, чья жизнь сама по себе если не энциклопедия, то авантюрно-политический роман с далеко идущими моральными выводами. Который только экранизировать или изучать на кафедрах. Впрочем, с последним сложнее: еще в 90-е годы, как пишет переводчик, из-за флера ультраправого террориста исследования о нем в германских университетах блокировали.
Обедневший дворянин, потомок французских нотаблей с «еврейской» фамилией (не самый удачный выбор по тем временам, как и возлюбленная-еврейка), террорист, участвовавший в успешном покушении на министра Вальтера Ратенау, политический сиделец, сноб, трикстер, нонконформист, писатель-модернист, успешный сценарист, безработный. При такой биографии, которую он еще не только не скрывал, но и активно демонстрировал, удобно ему в жизни быть не могло. Но меньше всего Заломон искал удобства. Выступал за сильную Германии, но был в контрах с гитлеровцами. Когда с укреплением их у власти началась массовая эмиграция интеллектуалов, он и горстка его единомышленников дали обет — остаться в своей стране и уйти во внутреннюю эмиграцию. Как Эрнст Юнгер и Готфрид Бенн, он относится к тем немногочисленным своевольцам, которые умудрились пострадать как от нацистов, так и их победителей. Впрочем, от немцев все же меньше — руководство Рейха слишком любило его книги, как и Юнгера, чтобы его трогать. Зато вволю отыгрались американцы — заключение, избиения, издевательства в местном «гулаге» он испытал более чем. На допросах, сплевывая выбитые зубы, он с удовольствием рассказывал все, как оно было. Нет, в партию не вступил. Почему? Чтобы сократить многочасовое объяснение, сказал, что как сценарист получал гораздо больше, — контрразведчиков это удовлетворило. Но признал, что был ультраправым, отсидел в молодости за убийство. Ненависть к американским войскам, этим «злобным куклам», он сохранил на всю жизнь.
Его роман (первоначально — 1 200 страниц, редактор еще подсократил) и есть в буквальном смысле ответы на американскую анкету. Где-то — прочерк, где-то — сотни подробных, дотошных страниц в духе Музиля, где-то — прустовские воспоминания. «В лагере родилась одна прелестная, законченная по своей форме шутка: „Простите, но, может быть, у вас найдется 4-5 часов времени для меня, я хотел бы очень кратко рассказать вам о себе!“ У каждого случай был особый. Когда впервые раздали анкеты — это был как раз первый признак, что с нами все-таки будет производиться нечто осмысленное, — тут же начался возбужденный гул. Однако затем, завидев 131 вопрос, все погрузились в тихий ступор».
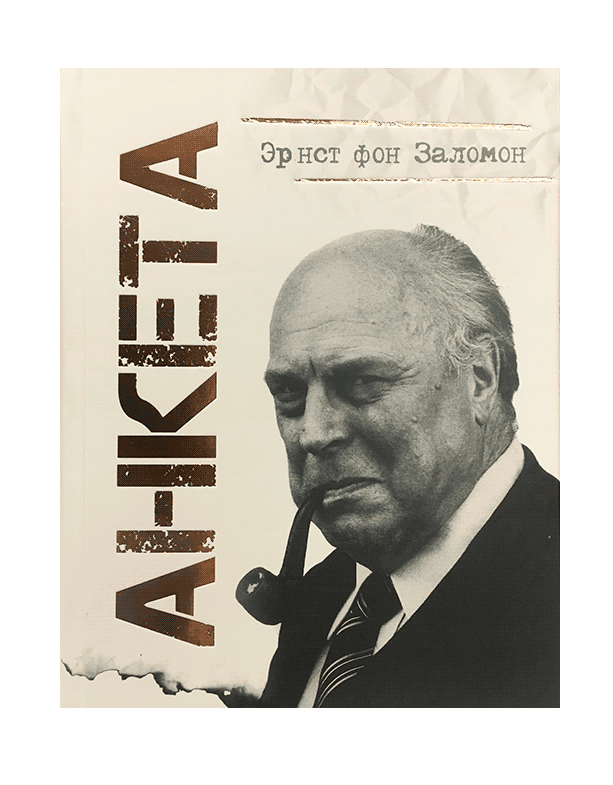 Но не Заломон. «Я вовсе не из тех, кто намерен так делать. Более того, разве можно было бы воспринимать всю эту анкету как-то иначе, нежели как попытку сподвигнуть меня к перепроверке своей совести?» Совесть он находит в итоге вполне чистой, по ходу заполнения же делает каравшей его Германии такое же одолжение, как ирландский изгнанник Джойс — увековечивает ее, дает полную расшифровку ДНК, по которой всегда можно будет оживить те годы. Да и мазки его широки: от истории своего рода и Германии, через политические игры тех предвоенных лет и рассуждения о роли Пруссии — до войны, поражения, преследований и заключения. С очень большими остановками на всех просмакованных алкогольных напитках, на незабываемую любовь во Франции (как и Юнгер, он был во многом франкофилом), сложности с бритьем и гигиеной в заключении у немцев и американцев. Гашековские приколы (на призывной комиссии он единственный признает, что совершенно здоров и жаждет на фронт, но вот одна незадача — судим за убийство), хемингуэевские импрессии о пьянках Тома Вульфа в Берлине, виановские изысканности («...затем поднялась и оставила меня в одиночестве, в обрамлении целого леса из восклицательных знаков»), очень много политики, аналитики, лирики и сюра — коктейль очень необычный, как те неизвестные настойки, что он смакует в своей декадентской молодости. «Анкета» — это и Bildungsroman, и история глазами очевидца, ведь он видел все: «Горел рейхстаг. Пассажиры замерли. Рейхстаг горел, тихо, словно сам по себе, и казалось, рана, желтая и красная, нанесена всей жизни этого города. Поезд по широкой дуге объехал этот великолепный, всепоглощающий эпицентр. Он кружил, словно специально предоставляя обзор этой катастрофы, этого зрелища из начала времен, по прочным стальным рельсам он вращался, как планета вокруг выбрасывающего протуберанцы солнца. И никто не сказал ни слова». С добавлением мандельштамовского ворованного воздуха, конечно, и очень большим.
Но не Заломон. «Я вовсе не из тех, кто намерен так делать. Более того, разве можно было бы воспринимать всю эту анкету как-то иначе, нежели как попытку сподвигнуть меня к перепроверке своей совести?» Совесть он находит в итоге вполне чистой, по ходу заполнения же делает каравшей его Германии такое же одолжение, как ирландский изгнанник Джойс — увековечивает ее, дает полную расшифровку ДНК, по которой всегда можно будет оживить те годы. Да и мазки его широки: от истории своего рода и Германии, через политические игры тех предвоенных лет и рассуждения о роли Пруссии — до войны, поражения, преследований и заключения. С очень большими остановками на всех просмакованных алкогольных напитках, на незабываемую любовь во Франции (как и Юнгер, он был во многом франкофилом), сложности с бритьем и гигиеной в заключении у немцев и американцев. Гашековские приколы (на призывной комиссии он единственный признает, что совершенно здоров и жаждет на фронт, но вот одна незадача — судим за убийство), хемингуэевские импрессии о пьянках Тома Вульфа в Берлине, виановские изысканности («...затем поднялась и оставила меня в одиночестве, в обрамлении целого леса из восклицательных знаков»), очень много политики, аналитики, лирики и сюра — коктейль очень необычный, как те неизвестные настойки, что он смакует в своей декадентской молодости. «Анкета» — это и Bildungsroman, и история глазами очевидца, ведь он видел все: «Горел рейхстаг. Пассажиры замерли. Рейхстаг горел, тихо, словно сам по себе, и казалось, рана, желтая и красная, нанесена всей жизни этого города. Поезд по широкой дуге объехал этот великолепный, всепоглощающий эпицентр. Он кружил, словно специально предоставляя обзор этой катастрофы, этого зрелища из начала времен, по прочным стальным рельсам он вращался, как планета вокруг выбрасывающего протуберанцы солнца. И никто не сказал ни слова». С добавлением мандельштамовского ворованного воздуха, конечно, и очень большим.
Заломон, думается, совершенно сознательно выламывается из всех концепций, стилистических ли, мировоззренческих ли. Он, скажем, ультраправый, за могущественную Германию, против денацификации, но звучит подчас как панк, что «всегда будет против». «Блистательный процесс образования девятнадцатого столетия подошел к концу, не оставив за собой никакой „культуры“, причем менее всего именно ее. Бессмысленно искать здесь чью-либо „вину“. Она начинается там, где пошел самообман. <...> И повсюду выдвигают свои жестокие требования — как их называет Юнгер — мавританцы, то есть пестрые толпы под разнообразными знаменами».
 Обложки иностранных зданий романа
Обложки иностранных зданий романа
Христианство, марксизм, все прочие движения оказались пустышкой, профанированы, они отвращают Заломона самой обреченностью и порочностью массового объединения. Уж не говоря о демократии («не знаю, что это такое, и так никогда и не смог найти того, кто смог бы мне удовлетворительно это прояснить. Однако, боюсь, утверждение Гитлера и его идеологической концепции приходило вполне в рамках демократии, с чем довольно трудно спорить»). «И не потому, что не могу оценить такие вещи, как нравственность, достоинство и порядочность, и уж тем более столь ценное сокровище, как индивидуальная свобода, а скорее из-за того, что склонен усомниться в бытийной действительности этих понятий и уж по меньшей мере в них как силе, способной воздействовать на ход событий в этом мире. Мне представлялось более логичным наблюдать, как исчезает и видимость их, нежели действовать от их имени». Ведь «человек сам по себе не ужасен, он становится таковым лишь тогда, когда начинает ощущать дух подчинения другому человеку».
Недаром, пытаясь затащить его на военную службу, знакомый военный чин предлагает ему персональное звание — «офицер по сомнениям».
И не просто так уже мелькало, как маяк в бурную ночь, имя Юнгера. Он будет здесь на многих страницах (вдумчивый и неравнодушный переводчик и комментатор даже посвятит персоналии две сноски). Они, разумеется, знакомы. «Комната была не особенно светлой, она была забита книгами, украшена масками и резными причудливыми фигурами из дерева, а на письменном столе стоял микроскоп, на полках же расположилась коллекция жуков и стеклянные банки, полные странных препаратов в растворах бледно-зеленого цвета. Эрнст Юнгер был закутан в шлафрок, на голове у него была пестрая кепка, на ногах войлочные туфли, а курил он длинную трубку из черешни с фарфоровым мундштуком».
Заломон, конечно же, признает его авторитет — стоит это отметить, ведь авторитеты не особо по его части. Юнгер выступал в роли того интеллектуального вождя одиночек, которого им так не хватало. Но это преклонение было не безусловное, да и книги самого Заломона расходились тогда, возможно, тиражами повыше. Заломон всегда более скептичен и ироничен, чем восторжен. То есть трезв. Во время опьянения войной и горечи поражения — в радости то бишь и горе.
«Секрет писательской манеры Эрнста Юнгера, мне кажется, заключается, элементарно выражаясь, в его двойственном качестве бойца и исследователя природы. Я полагал, что вполне сознаю, как этот человек, сформировавший свое мировоззрение посреди стальных гроз и одаренный виртуальной мощью духа, чтобы воспарить над ними, довольно быстро добрался до того, чтобы рассматривать поле боя, на котором физически находится и сам, словно летчик, которому с огромной высоты это кровопролитие представляется бессмысленным мельтешением, по-своему забавным своими микроскопическими существами, которые выстроились в колонны и двинулись в разные стороны. Потом он делает об этом короткие записи, чтобы какие-нибудь высшие инстанции и дальше спокойно сидели на своих местах. Сравнение с муравейником мог бы провести на этом месте каждый, но более всего, однако, тот, кто вырос в отцовской аптеке и с самого раннего детства задумывался о происходящем в природе», — Заломон слегка поддевает Юнгера, намекая на его аптекаря-отца.
Сам же Эрнст фон Заломон, пусть и не по своей воле, выбрал жанр анкеты. Настоящий пруссак, бюрократический занудный жанр он возгоняет до высокой литературы.