Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Павел Успенский. Травма эмиграции: случай Владислава Ходасевича. Paris: Éditions Tourgueneff, 2024
Т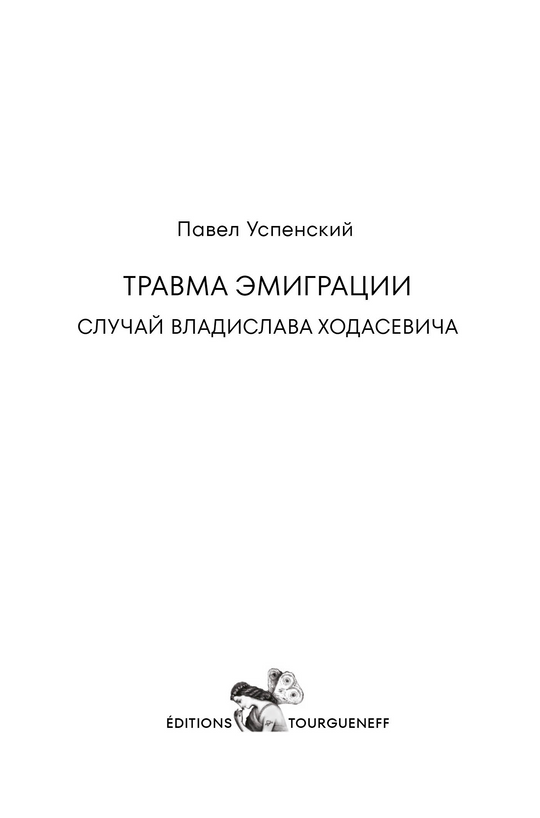 ворчество В. Ф. Ходасевича никогда не было такой лакомой поляной для исследователей, как, скажем, Набоков, ОБЭРИУ или акмеизм. К тому же для большинства действительно знающих предмет исследователей изучение Ходасевича все-таки не является главным жизненным делом, и это сказывается на их продуктивности. Например, прекрасно было бы, если бы за «Стихотворением Ходасевича „Обезьяна“» В. В. Зельченко последовали столь же основательные и остроумные монографии, посвященные другим сторонам жизни поэта, — но не знаю, насколько это реалистично. Тем отраднее появление новой работы П. Ф. Успенского — бесспорно, главного на сегодняшний день (после смерти Н. А. Богомолова) «ходасевичеведа».
ворчество В. Ф. Ходасевича никогда не было такой лакомой поляной для исследователей, как, скажем, Набоков, ОБЭРИУ или акмеизм. К тому же для большинства действительно знающих предмет исследователей изучение Ходасевича все-таки не является главным жизненным делом, и это сказывается на их продуктивности. Например, прекрасно было бы, если бы за «Стихотворением Ходасевича „Обезьяна“» В. В. Зельченко последовали столь же основательные и остроумные монографии, посвященные другим сторонам жизни поэта, — но не знаю, насколько это реалистично. Тем отраднее появление новой работы П. Ф. Успенского — бесспорно, главного на сегодняшний день (после смерти Н. А. Богомолова) «ходасевичеведа».
Признаюсь, однако, что при всем доверии к автору исходная идея книги в первый момент вызвала у меня настороженность. Казалось бы, что привносит фрейдистская конструкция «травмы» в извечный российский дискурс о болезненной и безвозвратной эмиграции? «В одной из первых работ, рассматривающих эмиграцию в психоаналитическом ключе, Леон и Ребекка Гринберги выделили основные аспекты психологического состояния эмигранта. Резкая смена культурной, социальной и языковой среды, постоянный стресс, связанный с новыми обстоятельствами жизни, приводят к кризису идентичности и — нередко — к фрустрации». Нельзя сказать, чтобы эти выводы были столь уж свежими и неожиданными. К тому же интерпретация той игры с масками, которую практикует в 1920-е годы Ходасевич («Фелициан Масла» «Феофилакт Мушкин»), именно как результата кризиса идентичности может показаться односторонней.
Это лишь подступы к основной идее книги. Идея эта — чрезвычайно точная и тонкая. Успенский обращает внимание на письмо Ходасевича к М. О. Гершензону (ноябрь 1922-го):
«У меня бывает такое чувство, что я сидел-сидел на мягком диване, — очень удобно, — а ноги-то отекли, надо встать — не могу. <...> Я здесь не равен себе, а я здесь я минус что-то, оставленное в России, при том болящее и зудящее, как отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо отчетливо, а возместить не могу ничем. <...> Я купил себе очень хорошую пробковую ногу, как у Вашего Кривцова, танцую на ней (т. е. пишу стихи), так что как будто и незаметно, — а знаю, что на своей я бы танцевал иначе, может быть, даже хуже, но по-своему, как мне полагается при моем сложении, а не при пробковом. Бог даст — пройдет все это, но пока что — жутко».
Потом следует справка о пушкинском знакомом, джентльмене и либерале александровского времени Николае Ивановиче Кривцове, потерявшем ногу в битве под Кульмом, дальше заходит речь о персонажах Достоевского, фантазирующих на тему утраты конечности, — Лебедеве и Лебядкине. И — вот тут, собственно, и изюминка книги — Успенский переходит к мотиву физической ущербности и/или утраты органа/чувства, телесного повреждения и распада, который именно в этот момент появляется в поэзии Ходасевича. В самом деле, стихи «Европейской ночи» переполняют соответствующие образы, и Успенский к месту вспоминает и слепого из одноименного стихотворения, и безрукого из «Баллады», и Джона Боттома с чужой рукой, и «уродиков» и «уродищ» из «Дачного», и «Каина с экземою между бровей».
Продолжая привлекать психоаналитический инструментарий, Успенский предполагает, что «эмиграция реактуализировала в сознании Ходасевича некоторый травматический психологический комплекс, сформировавшийся ранее. Иными словами, вполне вероятно, что в какой-то период жизни до эмиграции поэт пережил достаточно сильную травму, которая последовательно вытеснялась и была тем самым „слепым пятном“, а отъезд за границу указанный комплекс активизировал». Тут есть о чем подумать в контексте биографии писателя: начиная с болезненного детства и кончая пережитой в 1907 году любовной драмой — расставанием с первой женой. Мотив физической ущербности присутствует в описаниях и характеристиках, относящихся к молодости Ходасевича, — вспомним хотя бы знаменитое место из «Между двух революций» Белого («Жалкий, зеленый, больной, с личиком трупика, с выражением зеленоглазой змеи, мне казался порою юнцом, убежавшим из склепа, где он познакомился уже с червем»).
Последующие мысли и наблюдения (о работе Ходасевича над «Державиным» и незаконченной биографией Пушкина) не выстраиваются в столь же стройную, смелую и в то же время поражающую самоочевидностью модель, но тоже весьма интересны. С выводами исследователя можно только согласиться, но его рассуждения можно чуть-чуть дополнить.
Жаль, что, в поисках параллелей к соответствующим мотивам у Ходасевича Успенский не упомянул «Гондлу» Гумилева и в особенности «Роландов рог» Цветаевой (стихотворение, отмеченное Ходасевичем!) — я имею в виду мотив «уродства» и «горба». Жаль, что упоминание собственной «отрубленной головы» в «Берлинском» не вызвало, казалось бы, напрашивающейся ассоциации с гумилевским же «Заблудившимся трамваем» («Голову срезал палач и мне»). Речь идет о текстах, которые несомненно были на слуху и в памяти у Ходасевича в начале 1920-х. Жаль, что разговор о важном стихотворении «Дактили» уведен в примечания.
Наконец, в будущих переизданиях автор, конечно, устранит досадную описку: «Так, от работы над исследованием творчества поэта [Пушкина. — В. Ш.] умерли Натан Венгеров и Валерий Брюсов; с Пушкиным же связаны смерти Достоевского и Блока». Натан Венгров (не Венгеров), писатель и литературовед, никогда не занимался пушкинистикой и пережил Ходасевича на 23 года. Здесь имеется в виду, конечно же, умерший в 1920 году Семен Афанасьевич Венгеров.
Чтобы не заканчивать на этом мелком замечании, повторим: книга отличная, ценная и основанная на совершенно блестящем наблюдении. Я имею в виду ту параллель между письмом к Гершензону и стихами, на которую до сих пор никто не обращал внимания. Впрочем, все наблюдения делаются вовремя. Что и говорить, в атмосфере 2020-х годов рассуждения о травме эмиграции приобретают новый горький смысл. Но книга Успенского и о том, как эта травма преодолевалась творчеством и обогащала его.
