Новые зарубежные книги: сентябрь
Антрополог в поисках «Я», постэкспрессионист против Левиафана и американские бесы
 Дебора Леви. Горячее молоко. М.: Издательство «Э». Перевод с английского Елены Петровой, 2017
Дебора Леви. Горячее молоко. М.: Издательство «Э». Перевод с английского Елены Петровой, 2017
Подзаголовок романа мог бы быть «Антрополог на пляже» — и, честное слово, это описывало бы его точнее, чем загадочное горячее молоко в заглавии. Но Дебора Леви, кажется, любит загадки: ее роман целиком состоит из отсылок, символов и вопросов без ответа. Сила, впрочем, не в том, как замечательно сложно он устроен, а в ненарочитости всего этого великолепия — так, необязательно пристально разглядывать мазки на картинах старых мастеров, чтобы понять, что перед тобой шедевр. Пусть это сравнение роману льстит — он его заслуживает именно за попытку быть хоть чуточку умнее на поле, где читателя уже давно принимают за идиота.
Говорят, прошлый роман южноамериканской писательницы и драматурга Деборы Леви (живет в Англии, с 1980-х пишет пьесы, которые зачастую сама же и ставит на сцене) Swimming Home в 2011 году не брало ни одно издательство за излишнюю «литературность». Его опубликовали только после того, как он попал в шорт-лист Букеровской премии. Ну а «Горячее молоко» прилетело в шорт-лист Букера прямо из типографии. Литературность этого романа способствует ему и ни разу не затмевает главного: при всей сложности, это очень простая история обретения себя.
Сюжет о человеке в поисках собственного «Я» — один из метасюжетов XXI века. На этом поле процветает как сорняк всякая Элизабет Гилберт, и тем неожиданнее здесь серьезный автор, чьи герои не просто летают по своей жизни как соринки на ветру, но погружаются в нее, вглядываются, пытаясь понять, что с ними происходит. Такая пристальность оправдана тем, что главная героиня София — антрополог. Она оказывается на юге Испании вместе с матерью Розой, страдающей от неопознанной — возможно, воображаемой болезни. Роза не ходит (никто не может понять почему), Софии приходится толкать инвалидную коляску и таскать из холодильника воду, которая никогда не бывает правильной температуры. Роза заложила дом, чтобы пройти лечение у знаменитого доктора Гомеса, а София — собственную жизнь, чтобы отправиться за нею. Но непонятно, кто здесь кого лечит: заход обещает рассказ о созависимых отношениях матери и дочери, но на деле все гораздо интереснее.
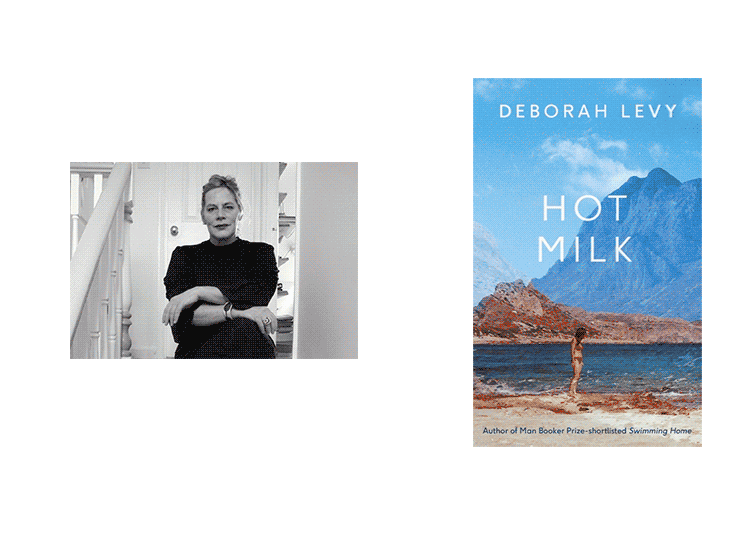
Дебора Леви и обложка англоязычного издательства книги «Горячее молоко»
Фото: And Other Stories Publishing
Небольшая испанская деревушка превращается в пространство мифа (группа «Квартал» очень точно описала такое превращение в строчке «все земное стало странным»): в море нашествие медуз, на соседней крыше непрестанно воет привязанная собака, по пляжу ходит длинная, как палка, прекрасная немка, вышивая причудливыми узорами платья из винтажного магазина. Антропологиня с непроизносимой греческой фамилией бродит по деревушке в поисках предмета полевых исследований и понимает, что главный предмет здесь — она сама. Изучая австралийских аборигенов и японские строительные компании, она «не очень-то преуспела в изучении собственной личности». Каждое слово и движение в романе обдумано и взвешено — даже сексом тут занимаются в полном сознании. Предметы раздваиваются на объект и символ: например, топор — и орудие (которым зарубили змею), и метафора («Моя любовь к матери — как топор. Слишком глубоко ранит»). И раз психологический роман скрещен с мифологическим, то и путь героини заранее прописан согласно мифу: убить мать (метафорически), выпутаться из отношений с отцом (буквально), остальное — по ситуации.
София — пассивный герой своего активного наблюдения, человек, одновременно потерявший управление жизнью и сохраняющий полный контроль над мыслями и эмоциями. Ее сверхприсутствие в тексте собственной жизни — главный секрет этой завораживающей прозы. Хотя задача-то у текста самая банальная — поставить галочки по всему чек-листу, касающемуся состоятельности современного человека: простила родителей, определилась с собственной сексуальностью, узнала пароль, увидела ориентир, перестала цепляться за прошлое и бояться будущего.
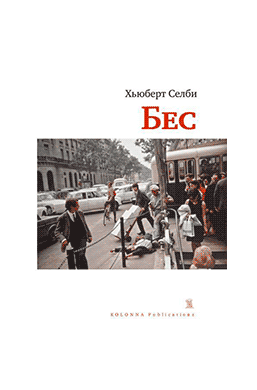 Хьюберт Селби. Бес. Перевод с английского Игоря Карича под редакцией Анастасии Грызуновой. Тверь: KOLONNA Publications, 2017
Хьюберт Селби. Бес. Перевод с английского Игоря Карича под редакцией Анастасии Грызуновой. Тверь: KOLONNA Publications, 2017
Один из самых знаменитых романов Хьюберта Селби — «Реквием по мечте» 1978 года — наверняка читали гораздо меньше, чем видели экранизацию Даррена Аранофски, тем более в России. Его громкий дебют «Последний поворот на Бруклин» (1964), который в Англии запрещали за непристойность, а легендарный суд над ним мог бы попасть в учебники как настоящий пир литературоведения, вышел на русском только в 2006-м. Аннотация гласила: «бестселлер о гей-сексе среди рабочих низов Нью-Йорка» — трудно сделать больше в России, чтобы книгу никогда не прочитали. Эпитет «потерянная классика» кажется для этого автора гораздо точнее. Аллен Гинзберг и Энтони Берджесс называли его одним из главных голосов поколения, но Селби так и не стал одной с ними величины, хотя в литературной иерархии должен быть намного выше — наравне с Генри Миллером и Филиппом Ротом. Благодаря всплеску славы в 1980-х, когда его открыл и активно продвигал музыкант Генри Роллинз, Селби избежал безвестности: выступал по всей стране, преподавал creative writing в университете Южной Калифорнии, писал во второстепенные журналы. Но слава ограничилась узкими кругами: тот же Роллинз или Лу Рид вдохновлялись его путешествиями к социальному дну в собственных описаниях нью-йоркского низа.
Главные герои Селби — отверженные, преступники, наркоманы, гомосексуалы; главная тема — разрушение личности. Люди в его прозе распадаются до основания, а автор — бесстрастный и дотошный хроникер распада. Не обошлось без биографического влияния: во Вторую мировую Селби зачем-то уговорил взять его в морские пехотинцы, бессмысленно заразился на корабле туберкулезом, лишился одного легкого и части второго, крепко подсел на морфий, затем — на героин и вернулся в Нью-Йорк умирать. Врачи давали ему год, он прожил почти шестьдесят. Все его значительные романы, написанные уже после того, как он слез с иглы в 1960-х, сохраняют память об ужасах зависимости.
Главный герой «Беса» (1976) Гарри зависим от зла, хотя поначалу кажется, что от удовольствия (привет, Фрейд). История его похождений начинается с сексуальных: Гарри одержим замужними женщинами и виртуозно затаскивает их к себе в постель. Но если поначалу его интересует легкий секс без обязательств, постепенно он начинает поддаваться одержимости, охотиться за жертвами, обманывать их — и вот он зависим уже не от секса, а самой охоты, и утолить этот голод невозможно. С коротким перерывом на удачную карьеру и счастливую женитьбу (и то, и другое — та же радость охоты), он скатывается все дальше и дальше: изменяет жене, приворовывает — наконец, убивает.
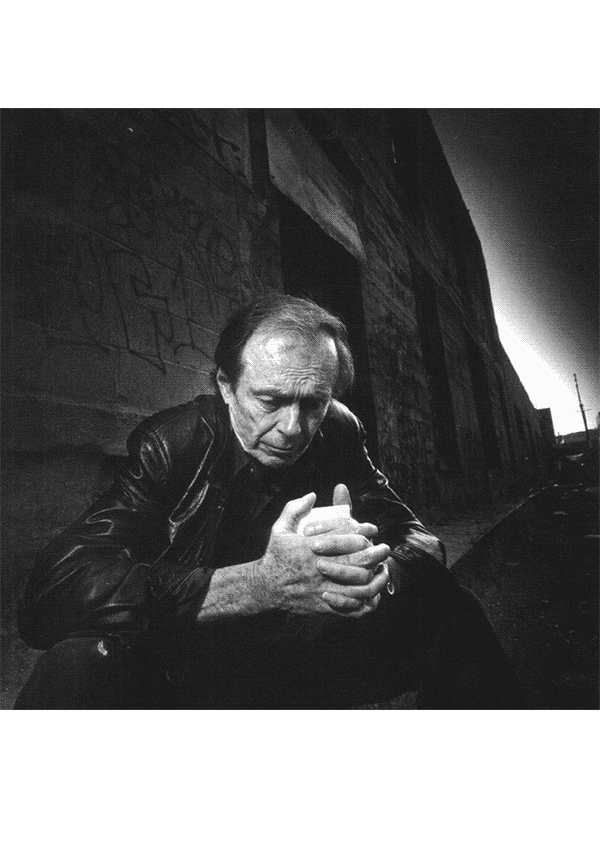
Хьюберт Селби
Фото: radikal.com.tr
У Селби специфическая орфография и пунктуация: он может прервать строку на середине фразы, вдруг отказаться от запятых, чтобы не прерывать потока речи, вставлять абзацы и пробелы, передавая пустотами внутри текста пустоту внутри героя. Героя на наших глазах просверливают насквозь, и сделать это просто, потому что и влечение, и удовольствие, и отвращение к себе у него совершенно реальные — практически осязаемая «дыра в нутре». Именно это и делает роман Селби универсальным: он о невозможности противиться падению в бездну. Ужасаясь судьбе героя, читатель не может вызвать в себе отвращения: чем глубже тот падает, тем очевиднее мучается; чем он отвратительнее, тем очевиднее страдает. Мучения здесь библейские, только у них и есть настоящий масштаб: «и он стал полем боя райских псов и псов адских и адские псы рвали и драли его плоть и все больше дичали и зверели от запаха и вкуса крови а райские псы стояли абсолютно безмолвно и неподвижно и ждали а адские псы смотрели на них насмешливо и едко выдирая и вырывая все новые ошметки плоти из нутра Гарри Уайта ибо знали что они в безопасности».
Критики любят называть Селби современным Достоевским, и у него действительно немало перекличек с русской классикой. Он точно так же присматривается к униженным и оскорбленным, примечает в окружающих потенциальных безумцев, испытывает к ним такое же сочувствие и считает среду в ответе за их несчастья. Гарри не выходец из социального низа, не сидит в тюрьме, не принимает наркотики. Он талантливый работник, нежный сын, прекрасный семьянин. Он — современник, причем, может быть, и наш сегодняшний, время тут слишком туманно. Как и в «Реквиеме по мечте», распад личности становится прямым следствием истории: герои стремятся получить то, что обещает им время (Сара — идеальную фигуру и счастливую семью, Гарри — успешную карьеру), и именно это стремление заполучить все разом убивает их в первую очередь. Невероятно сильная проза — и крайне современная.
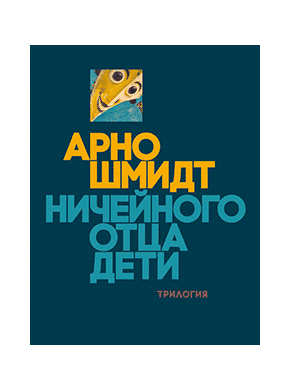 Арно Шмидт. Ничейного отца дети. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017
Арно Шмидт. Ничейного отца дети. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017
Немецкому постэкспрессионисту Арно Шмидту не пришлось долго ждать признания. Его скромную карьеру бухгалтера в силезийском Грейфенберге прервала война и английский плен; вернувшись с войны, Шмидт занялся литературой. В 1949 году отослал первые рассказы в издательство «Ровольт», где молодого автора немедленно приняли, а уже в 1950-м получил премию Академии наук и литературы в Майнце — прямо из рук своего кумира Альфреда Деблина. Рассказ «Левиафан», первый литературный успех Шмидта, вышел на русском в «Иностранной литературе». Его одного достаточно, чтобы понять — это писатель огромной величины. То же самое и с книгой «Ничейного отца дети»: с первых же страниц читатель испытывает онемение от масштабов этой прозы.
Nobodaddy’s Kinder (идеальная демонстрация непереводимости Шмидта) состоит из трех ранних повестей: «Брандова пуща» (1951), «Черные зеркала» (1953) и «Из жизни одного фавна» (1953). Первая — довольно реалистичная хроника выживания в послевоенной Германии, вторая — велосипедное путешествие по выжженной атомной войной земле, третья — жизнь чиновника в гитлеровской Германии. Объединяет их место действия (Люнебургская пустошь), но не только: настоящее Шмидта вообще очень условное, у каждого события есть культурный слой — от древности и мифа до конца миров. Все они находят место в пределах одного абзаца: у Шмидта своя техника письма, которую он называл пуантилической. Текст разбит на отдельные самостоятельные абзацы — словно фотографические снимки, между которыми щелкает затвор камеры.
Эта книга на русском — гигантский труд, и не только потому, что почти половину занимают комментарии. Перевод Татьяны Баскаковой (единственной, кто мог осилить такую махину) внимателен к каждому слову, а иначе нельзя: Шмидт исповедовал почти ревностное преклонение перед письменным словом и литературной традицией; очень часто в его текстах реалистические описания находят отражение в мифологическом мире. Слово здесь — заговор, заклинание, которое не сработает, если не будет точным. Это тем более важно, поскольку для Шмидта Бог-Творец, Primo Motore Целого, и есть тот самый Левиафан, «Не Бог, а Демон». А противостоять ему могут лишь языческие фавны, белые волчицы-оборотни, дружественные человеку моря, леса и утесы.