Новые книги по советской истории
Меньшевик о красном терроре, левый эсер о революционном насилии
Обзор исторической литературы от Дмитрия Стахова: мемуары бундовца и размышления наркома юстиции РСФСР об Октябрьской революции.
 Григорий Аронсон. На заре красного террора. ВЧК—Бутырки—Орловский централ. М.: Кучково поле, 2017
Григорий Аронсон. На заре красного террора. ВЧК—Бутырки—Орловский централ. М.: Кучково поле, 2017
Исаак Штейнберг. Нравственный лик революции. М.: Кучково поле, 2017
Мемуары Григория Аронсона посвящены формированию репрессивной машины советской власти, о чем автор, активный меньшевик и одновременно деятель правого крыла Бунда, знал не понаслышке. Почти четыре года Аронсона держали и в подвалах Лубянки, и в Бутырской тюрьме, и в Орловском централе. В декабре 1921 года его собирались отправить в ссылку в Туркестан (сам Аронсон допускал, что дотуда не доедет и его забьют по дороге конвойные), но потом большевики решили от него избавиться: гуманно не расстрелянный, в январе 1922-го он попал через Ригу в Германию. Умер в своей постели в Нью-Йорке в 1968 году.
В своей постели — тоже в Нью-Йорке, только на одиннадцать лет раньше — умер и третий нарком юстиции РСФСР Исаак Штейнберг. Первого наркома, Георгия Оппокова, ожидаемо расстреляли в 1938-м. Второй нарком юстиции Петр Стучка (вернувшийся на пост после того, как Штейнберг покинул Совет народных комиссаров в знак протеста против заключения Брестского мира) успел умереть до начала Большого террора, в 1932 году. Штейнберг, в отличие от социал-демократа Аронсона, был левым эсером. И его книга не мемуары, а описание двух ликов революции: лживого большевистского (по его мнению) и подлинного, вырастающего из идеалов левых эсеров. «Сейчас на русской арене спор двух начал воплощается в борьбе между марксизмом и левонародничеством. Но этот спор имеет всемирно-историческое значение, ибо в той или иной форме повторится он везде. Быть ли человеку творцом и зачинателем истории или только ее идолопоклонником, только пленником ее законов — эта дилемма острее и осязательнее познается в вопросе насилия», — писал он.
Штейнберга после первой публикации книги (как и книга Аронсона в 1929 году, она была издана в Берлине, но раньше, в 1923-м) упрекали: как же так, вы член партии, прибегавшей к политическому террору, а красный террор теперь осуждаете. Штейнберг вежливо просил прочитать его книгу еще раз, чтобы понять аргументацию. Но помимо его долгих, временами пафосных и романтических рассуждений, имелись и более простые ответы. Один дал в 1919 году в Киеве боевик и эсер-максималист Николай Рывкин, когда переметнувшийся к большевикам Яков Блюмкин попросил у него динамит. С помощью этого динамита Блюмкин собирался взорвать Киевский оперный театр в момент присутствия в нем генерала Деникина. Николай Иванович сказал: «Мы, в отличие от твоих новых товарищей, революционеры, а не мясники. Мы бомбы бросали и бросаем по точному адресу». Кстати, тогда же Блюмкин был приговорен максималистами к смерти за измену, случайно предупрежден Розой Ландау (невестой максималиста-взрывника Станислава Таукина), понял, чем пахнет киевский воздух, и из Киева удрал.
Кроме смерти в своих постелях, Аронсона и Штейнберга объединяло традиционное еврейское образование, полученное прежде светского. Штейнберг учился в Московском университете, но был отчислен за революционную деятельность и магистерскую степень получал в Германии. Роман Гуль свидетельствовал, что Штейнберг, писавший литературные произведения на идише, был ортодоксальным евреем, соблюдавшим все обряды. Это не мешало ему прибегать к сомнительным для ортодокса образам в описаниях смысла социализма: «Единая нить ведет от галилейских рыбаков и раньше до нашего времени». Штейнберг — поразительный идеалист и романтик революции. Аронсон был, видимо, тоньше и умнее. Социал-демократ, одним словом.
 Для большевиков Аронсон был очень опасен. Не в силу «меньшевистско-бундовской» идеологии. Его взгляды — причудливая смесь социал-демократии и принципов Бунда: социализма, секуляризма, идишизма (всемирного развития культуры на идише), принципа «дойкайт» (приверженности месту жительства, выраженной в бундистском лозунге «Там, где мы живем, там наша страна»). Опасность была в его профсоюзной деятельности, далеко выходившей за «национальные» границы. И она увеличилась после введения НЭПа, Кронштадтского восстания и скручивания в бараний рог всех профсоюзов новой России. Большевики прекрасно понимали, что профсоюзы могут быть только «школой коммунизма». В начале 1920-х там, где профсоюзы могли выступить защитниками подлинных прав трудящихся (не только «чистых» пролетариев, промышленных рабочих), они видели самую главную внутреннюю угрозу. Неудивительно, что Аронсон так долго мыкался по большевистским тюрьмам. Удивительно, что его не расстреляли, когда расстреливали по одному росчерку пера, а чаще и без оного.
Для большевиков Аронсон был очень опасен. Не в силу «меньшевистско-бундовской» идеологии. Его взгляды — причудливая смесь социал-демократии и принципов Бунда: социализма, секуляризма, идишизма (всемирного развития культуры на идише), принципа «дойкайт» (приверженности месту жительства, выраженной в бундистском лозунге «Там, где мы живем, там наша страна»). Опасность была в его профсоюзной деятельности, далеко выходившей за «национальные» границы. И она увеличилась после введения НЭПа, Кронштадтского восстания и скручивания в бараний рог всех профсоюзов новой России. Большевики прекрасно понимали, что профсоюзы могут быть только «школой коммунизма». В начале 1920-х там, где профсоюзы могли выступить защитниками подлинных прав трудящихся (не только «чистых» пролетариев, промышленных рабочих), они видели самую главную внутреннюю угрозу. Неудивительно, что Аронсон так долго мыкался по большевистским тюрьмам. Удивительно, что его не расстреляли, когда расстреливали по одному росчерку пера, а чаще и без оного.
Но все-таки главная ценность книги не в авторской позиции и описанных идеологических спорах, а в переданном ощущении чекистского сапога, прошедшегося по всем инакомыслящим. В первую очередь — по недавним союзникам большевиков. Аронсон удивительно точно описывает как самих чекистов, так и тюремщиков, среди которых попадались служившие в тюрьмах при «проклятом царизме». Сравнение садистов и психопатов, опьяненных властью, и старых служак, сделанное автором, заставляет задуматься над вопросом, однозначного ответа на который, видимо, нет: из каких бездн, из каких болот появились эти существа с холодными сердцами?
Как и Аронсон, Штейнберг — убежденный противник коммунистической партии и ее методов. Он пишет свою книгу на третьем году революции, отмечая: «Народ, трудовой народ почувствовал зло в революции. А от этого чувства зла и родилась его сначала душевная смятенность, а потом и безразличие к революции». Пытаясь понять, откуда это «чувство зла», Штейнберг приходит к выводу, что «родилось оно от того безудержного насилия, от той системы массового террора, которые вошли в обиход революции, которые были узаконены, освещены, возведены на пьедестал с этого времени». И продолжает: «Это чувство родилось, конечно, и из централизма коммунистической партии, вытеснения масс от распоряжения своей судьбой, которое организационно убивает революцию». Террор большевиков, пишет он, «и как причина, и как следствие» тесно связан с централизмом. Одним словом, левый эсер, да еще осудивший большевистский переворот.
Представить нравственный лик революции Штейнберг пытается через оценку террора, отделяя его от революционного насилия. Да и сам террор он делит на «красный» (беспощадный и массовый, включающий расстрелы заложников, большевистский) и «героический» (эсеровский, возможный лишь как индивидуальный). Штейнберг полагает, что террор надо оценивать «не со стороны его воздействия на наше субъективное „я”, а со стороны его объективного соответствия высшей руководящей нравственной цели». Нравственная оценка террора для него возможна с двух точек зрения: как одного из методов для достижения высокой цели («все дороги ведут в Рим, значит, все дороги святы») и посредством оценки самого «Рима», один из путей к которому — террор. Рассматривая результаты «красного террора», Штейнберг заключает, что «большевистский Рим» не выдерживает никакой нравственной оценки. Большевики обосновывали свой террор угрозами со стороны «внутреннего врага», но «понятие „внутреннего врага” расширилось так всеобъемлюще, расширилось почти до понятия нации настолько, что охрана революции все больше концентрируется у порога небольшой группы правящих людей, а в итоге охрана революции превращается из защиты народа в самосохранение власти». Для Штейнберга оправдание большевиками террора — самый опасный обман, а одно из следствий террора — советская бюрократия, что делает обманом и декларируемую диктатуру пролетариата, которая на самом деле диктатура бюрократии. Более того, в «красном терроре» он видит «питомник негодяев», осуществляющих его в «состоянии перманентной паники <…> вот почему террористическая диктатура в известной мере есть и диктатура паники».
Насилие же Штейнберг рассматривает как оборону: «оно отвечает лишь крайней необходимости, оно пускается в ход, лишь поскольку нужно для отражения или ломки старого мира, оно, одним словом, по существу оборонительно». От террора оно отличается внутренним устремлением: «насилие это, прежде всего, насилие над нами же самими»; «если насилие — баррикада, то террор — застенок». Субъективная концепция революционного насилия (он признает адекватными лишение избирательных прав, заключение в тюрьму, бойкот и высылку, но никак не деятельность «революционного палача» ВЧК) становится у Штейнберга системой, в которой право лишь дополнение к морали, что удивительно для юриста, тем более — одного из министров юстиции. Впрочем, и этому есть объяснение: моральное сознание, установка на внеправовую справедливость (химера «социальной справедливости», настоящий русский Молох), якобы стоящую выше политики и права, поныне одно из свойств русской ментальности.
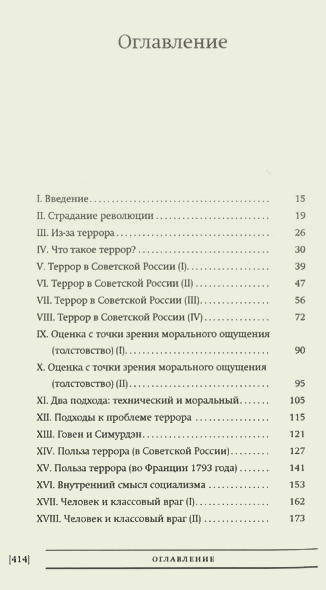 «Нравственный лик революции» 2/4
«Нравственный лик революции» 2/4 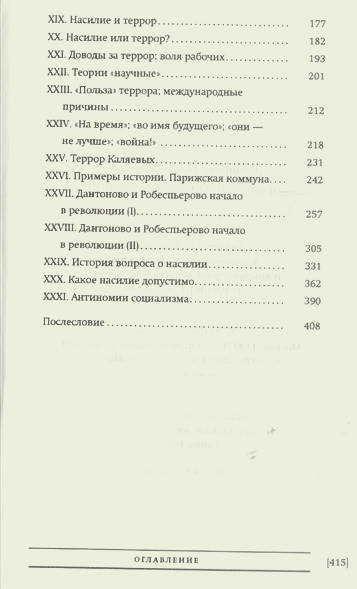 Оглавление книги «Нравственный лик революции» Оглавление книги «Нравственный лик революции» 3/4
Оглавление книги «Нравственный лик революции» Оглавление книги «Нравственный лик революции» 3/4 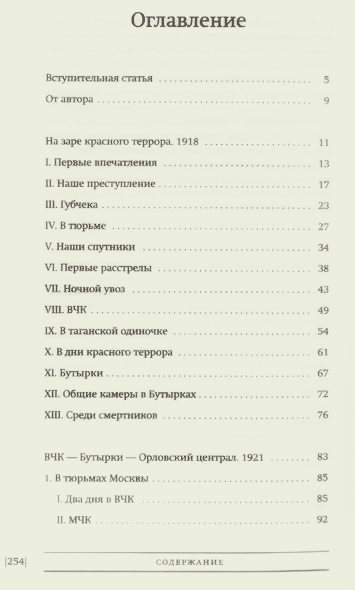 Оглавление книги «На заре красного террора. ВЧК—Бутырки—Орловский централ» 4/4
Оглавление книги «На заре красного террора. ВЧК—Бутырки—Орловский централ» 4/4 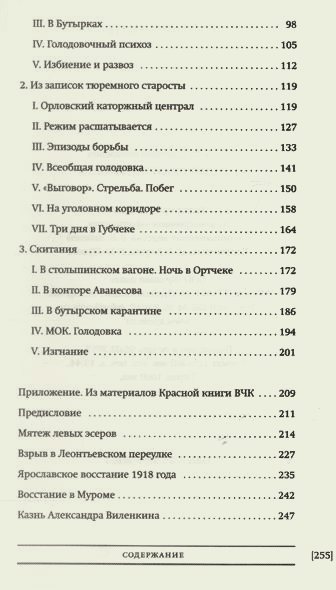 Оглавление книги «На заре красного террора. ВЧК—Бутырки—Орловский централ»
Оглавление книги «На заре красного террора. ВЧК—Бутырки—Орловский централ»