Новинки нон-фикшн. Сентябрь
Память о блокаде, шкура Талеба и наблюдения за животными в польском лесу
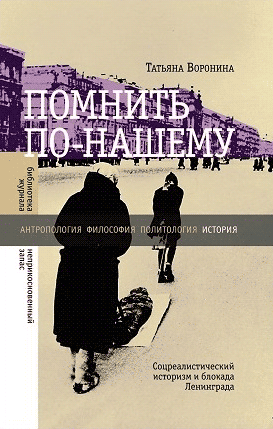 Татьяна Воронина. Помнить по-нашему. Соцреалистический историзм и блокада Ленинграда. М.: Новое литературное обозрение, 2018
Татьяна Воронина. Помнить по-нашему. Соцреалистический историзм и блокада Ленинграда. М.: Новое литературное обозрение, 2018
Важное исследование, посвященное блокаде в российской исторической памяти. Татьяна Воронина (исследователь в Университете Цюриха, ассоциированный сотрудник Центра устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге) смотрит на эту тему под несколько неожиданным углом — через призму соцреалистического романа. По ее мнению, не только блокада повлияла на советскую литературу, но и советская литература повлияла на то, что мы знаем и помним о блокаде. Роль соцреализма не сводится к трансляции политических взглядов правящей верхушки: он формировал в обществе устойчивые нарративы, пережившие советскую власть. Как литературное направление соцреализм мертв, но он, как ни странно, продолжает воздействовать на наши представления о прошлом.
Воронина обозревает советские тексты о блокаде (стихи Ольги Берггольц, лейтенантская проза, хроника Адамовича и Гранина) и выделяет в них устойчивые фабульные элементы (к примеру, превосходство победы над любой трагедией — «страдая и даже погибая, советский человек все равно одерживает победу»). Эти же элементы соцреалистической риторики она обнаруживает в поздних воспоминаниях и выступлениях самих блокадников.
Книга «Помнить по-нашему» академическая, текст пестрит ссылками на Бахтина, Лотмана, Гройса, Бурдье, но при этом написана доступно, почти прозрачно. Пожалуй, главная ценность этого исследования в том, что оно помогает лучше осмыслить не только прошлое, но и настоящее, понять, как устроен блокадный дискурс сегодня и почему любая попытка дегероизации блокады до сих пор отзывается в обществе вспышкой гнева и возмущения. Закономерно, что в предисловии автор вынуждена объяснять, что работу ни в коем случае не стоит воспринимать как развенчание советских мифов или попытку умалить героизм блокадников. Кажется, боязнь оскорбить чью-нибудь память стала такой же неотъемлемой частью разговора о войне, как и наследие соцреалистических романов.
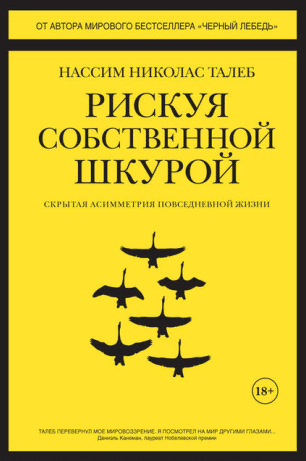 Нассим Талеб. Рискуя собственной шкурой: Скрытая асимметрия повседневной жизни. СПб.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. Перевод с английского Николая Караева
Нассим Талеб. Рискуя собственной шкурой: Скрытая асимметрия повседневной жизни. СПб.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2018. Перевод с английского Николая Караева
Страстная отповедь главного современного поп-философа интервенционистам, финансистам, бюрократам и книжным обозревателям. Всех этих людей, по мнению Талеба, объединяет то, что они не несут ответственности за свои провалы, то есть не рискуют собственной шкурой, из-за чего система современного мира становится ассиметричной и со дня на день разъедется по швам. Поправить положение могут люди, делающие свое дело и сами за него отвечающие, — например, бизнесмены, ремесленники, писатели. Самые большие надежды Талеб, кажется, возлагает на самого себя (его желание нести ответственность за свои слова настолько сильно, что для того, чтобы процитировать несколько положений из Законов Хаммурапи, ему пришлось выучить аккадский язык).
«Рискуя собственной шкурой» — заключительный том пятикнижия Талеба Incerto, в который вошли «Одураченные случайностью», «Черный лебедь», «Прокрустово ложе» и «Антихрупкость». Здесь писатель частично повторяет максимы, уже знакомые читателям по предыдущим книгам, а также вступается за некоторые превратно понятые образы: например, понятие «черного лебедя», по его словам, он придумывал вовсе не для того, чтобы ушлые политики или финансисты оправдывали им свои неудачи. Основную мысль заключительного тома Талеб легко укладывает в одном введении, всю остальную книгу он скорее выступает в роли мастера каскадных метафор, обращаясь за вдохновением то к Канту, то к Ницше, то к фондовой бирже.
Отдельное удовольствие — наблюдать, как Талеб, вооруженный почти что школьными обзывательствами, нападает на ненавистных ему интеллектуалов: обвиняет рецензентов The New York Times и The Guardian в том, что они бредят и «надираются», сравнивает книги психолингвиста Стивена Пинкера с «Бургер Кингом для автомобилистов». В какой-то момент синонимические ряды Талеба, («умственные инвалиды, умственно отсталые, дураки, самодовольные психопаты, трепачи») и вовсе начинают напоминать последствия болезни Туретта. Злость, с которой пишет Талеб, бодрит, да и призывы как можно скорее вернуться к корням звучат заманчиво. Проблема лишь в том, что любую его отточенную эскападу сразу же хочется вернуть автору. Например, эту: «Проклятие современности в том, что среди нас все больше людей, которые объясняют лучше, чем понимают. Ну или лучше объясняют, чем делают».
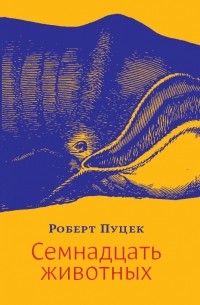 Роберт Пуцек. Семнадцать животных. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018. Перевод с польского Ольги Морозовой
Роберт Пуцек. Семнадцать животных. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018. Перевод с польского Ольги Морозовой
Сборник эссе о животных как образах и символах. Личный бестиарий, составленный польским писателем, последние восемь лет живущим в лесной хижине у подножия гор. Пуцек протягивает нити ассоциаций между материальным миром животных и эфемерным пространством культуры: белки и древнеисландский эпос, слоны и трактаты Аристотеля, бизоны и испанский путешественник Франсиско де Коронадо, жемчужины и гностическая «Песнь апостола Иуды Фомы», волки и классификация пророческих снов по Филону. Книга в большей степени поэтическая, пусть в ней и много разного рода информации — к примеру, Пуцек на нескольких страницах описывает стадии спаривания улиток. Впрочем, надо признать, что и спаривание улиток у него тоже выглядит очень поэтично.
«Семнадцать животных» пленяют прежде всего языком, старомодным и избыточным. При чтении такой книги (спасибо переводчице) чувствуешь, что текст еще лучится тем удовольствием, который испытывал при написании его автор: «Бабочка раскладывает крылья, и рисунок их чешуек оборачивается бурой влажной бездной, шоколадной пропастью глотки, обрамленной жадно разверстыми губами ярко-алого цвета». Все эти воронята, брусника, валежник и дровяник, о которых пишет Пуцек, сидя у себя в старой лесной хижине, действуют почти как гипноз. Эти эссе были бы похожи на рассказы Виталия Бианки, если бы он увлекался античной философией, раннехристианскими трактатами и персидской поэзией.
«Семнадцать животных» — пример крайне уединенного письма. Достичь его, видимо, можно только пребывая в особенном духовно сосредоточенном состоянии, когда даже случайно увиденная белка способна вызвать многочасовые размышления о тайной природе беличьего участия в жизни человека. «Семнадцать животных» по степени экзистенциальной открытости напоминают прозу Сергея Соловьева. Соловьев вдохновляется индийскими заповедниками, Пуцек — польской природой, но оба с помощью письма пытаются ни много ни мало совместить пространство тела с пространством духа. Независимо от результата, сама эта попытка выглядит как яркий эстетический жест. У Пуцека такая мысль тоже есть: «Мир прекраснее всего тогда, когда наша мысль (как нам кажется) способна его истолковать».