Ноликлашки и обнулята: поэтические книги января
Лев Оборин — о новых сборниках Веры Полозковой, Андрея Гришаева и Киры Фрегер
Вера Полозкова. Работа горя. М.: LiveBook, 2021
Оставаясь самым популярным русским поэтом своего поколения, Вера Полозкова не выпускала новых книг семь лет. В «Работе горя», собственно, и собраны стихи, написанные с 2013-го по 2020-й и расположенные в хронологическом порядке. В результате теперь перед нами история переплавления одного поэта в другого. Такие истории не бывают идеальными — и вся книга говорит как раз об этом.
Слава пришла к Вере Полозковой, как раз когда она писала нарративные тексты («Бернард пишет Эстер...»), в которых надрыв и драма неизбежно, по крайней мере в читательских глазах, гламуризировались; можно было бы объединить эти стихи в условный цикл «Современные тоже плачут». Такие стихи есть и в «Работе горя» (про Конрада Пирса, про Дебору Питерс, про Аниту) — но направление они уже не задают. В стихотворении «лучше всего анита умеет лгать...» персонажа сознательно вытаскивают из «воланов и кружев», очищают от грима. Говорить про другого, даже говорить от лица другого («ты-то белая кость, а я вот таксист простой») не значит быть другим — и большая часть сборника посвящена осознанию и усвоению этого факта. Те громкие тексты щегольской выделки заслоняли более тихую «я»-лирику Полозковой — уже совершавшую исподволь подготовку к «работе горя». Другое дело, что если в сборнике «Фотосинтез» о собственных стихах Полозкова говорила: «Мои стихи. Как цепь или гряда, / Как бритые мальчишки в три ряда, / Вдоль плаца, по тревоге чрезвычайной / Моею расставляются рукой», то одиннадцатью годами позже разговор со стихами иной: «большое спасибо, мальчики, но дальше не по пути». Отчасти дело в том, что, пока стихи, списанные «в ящичек», лежат там (а чем книга с переплетом древесного цвета не ящичек?), их автору приходится осматривать «дымящиеся руины моей семьи» — но важнее то, что демиургически-милитаристская метафора отношений с текстом больше не работает, особенно произнесенная на полном серьезе. Дело не только в ее гражданских коннотациях. В «Работе горя» как раз хватает внятных гражданских высказываний — как видим, не теряющих актуальности:
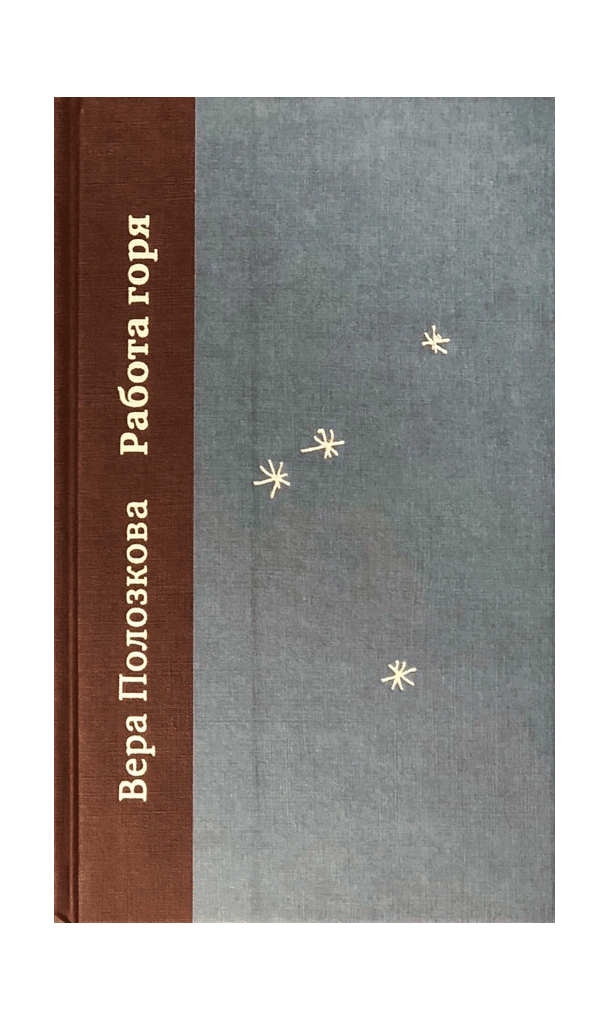 перед путешественником, где черен,
перед путешественником, где черен,
где еще промышленно не освоен,
целый горизонт лежит живодерен
и предателебоен
всяк у нас привит, обезболен,
власти абсолютно лоялен,
это слышно с каждой из колоколен,
изо всех шапкозакидален
и сладкоголосый, как сирин,
и красивый, как сталин
нами правит тот, кто всесилен
и идеален
от восторга мы не ругаемся больше матом,
не ******, не курим,
нас по выходным только к банкоматам
выпускают из тюрем
Дело еще и в том, что командовать стихами — значит быть на виду, и тем самым, превращаясь в зрелище, не совпадать с самим собой. Естественным выходом кажется самоустранение, растворение: на уровне поэтического языка его манифестирует «бессубъектная лирика» постдрагомощенковского извода, от стихов Полозковой весьма далекая — но схожие мысли заставляют Веру Полозкову, ярко выраженного «я-лирика», постулировать то же самое на уровне, скажем так, сюжета:
загадал, когда вырасту, стать никем.
камер видеонаблюдения двойником.
абсолютно каждым, как манекен.
мыслящим сквозняком.
Стать никем — читай, кем-то другим, потому что Полозкова умеет видеть малые, драгоценные детали мира, как будто приглашающие стать собой. Это настойчивое желание — один из лейтмотивов книги. Пусть в процитированном стихотворении мир говорит герою «тебе нельзя быть листок и жук», желание не исчезает и несколько лет спустя: «можно я сделаюсь барбарис, клевер и бересклет?» (обратим внимание на использование именительного падежа вместо творительного — постоянный прием Полозковой: застолбить «словарную», дефинитивную территорию назло всем этим «нельзя»). Разумеется, это куда нормативнее претензии Введенского, что он «не ковер не гортензия»: собственно, в следующем тексте вообще происходит эмиграция в классическую русскую литературу и сказку, с барчуками, купчихами и серым волком. Тем не менее в основе эскапизма — ощущение несовпадения с собой, и ответом может быть не паническое бегство, а стремление к благотворной перемене. Для Веры Полозковой один из главных способов вновь привести поэтическую машину в действие — путешествие.
Как и в прежних книгах, здесь есть тексты, плотно связанные с местами: объединенные в циклы по годам «Письма из Гокарны» или путевой дневник итальянского путешествия. «вся эта подробная прелесть, к которой глаз не привык, / вся эта старинная нежность, парализующая живых...»: так бывает, когда город сам ложится в текст, тем более такой привычный к этому, как Венеция. Индия в жизни автора случается зимой — и чувствуется, как поэтическое звучание, которому приходилось играть терапевтическую роль («а пришлют из небесного ведомства / повесточку треугольную — / и мы наконец разъедемся / с моей болью»), в любимом месте само подвергается терапии. Оно позволяет себе идиллию и не боится общих образов:
садись у озера и говори ему:
вот этой черноты твоей возьму
и с нею на плечах перезимую.
чтоб ропота, и плеска, и огня
не стало на поверхности меня,
и только колыбельную земную
доносит ветер с дальнего крыльца.
ну разве месяц, ободок кольца,
да звезды юные колеблются, мерцают,
пока их дымом не заволокло.
спокойное и чистое стекло,
которого ничто не проницает.
Второй возможностью оказывается обращение к ребёнку — к Другому, созданному тобой; книга открывается практически блюзовым стихотворением-разговором, в котором ребенок задает правильные вопросы — и помогает разложить старое горе «на книгу / и темноту».
Книга эта, видимо, не могла быть устроена иначе. Говорящий здесь — фильтр, устройство по обмену внешних и внутренних сигналов, прибор под постоянным напряжением. Ему важно о себе говорить, даже примеряя на себя чужой опыт. Напряжение же, выданное лично по адресу, растет год за годом. В том числе это внешнее давление — со стороны читателей и зрителей, привыкших к выступлению стихов-«мальчиков» как к цирковому представлению: «я хожу без страховки с факелом надо лбом / по стальной струне, натянутой между башен, / когда снизу кричат только: „упади” / <...> если я отвечу им, я не удержу над бровями факел. / если я отвечу им, я погиб». Этому внешнему давлению соответствует внутреннее: не только работа горя, но и сохранение шага. Может быть, причина сильного неприятия Полозковой поэтическим «цехом» — не в том, что она добилась большой популярности, когда другие ее не добились, а в том, что она переизобретает поэтику, казалось бы, консенсусно сданную в утиль, и берет на себя за это ответственность. Издержкой здесь может показаться пафос такой задачи. Зато козыри — гордая самодостаточность и честность говорящего по отношению к себе: это одних раздражает, других заставляет подражать и учить стихи наизусть.
Андрей Гришаев. Останься, брат. Ozolnieki: Literature Without Borders, 2020
В эту книгу вошли стихи Андрея Гришаева, написанные за несколько лет, и она производит сильное, неожиданное впечатление. Можно, не отменяя предыдущих эпитетов, добавить еще один — «сумбурное», но сумбурность эта, судя по всему, входит в авторскую задачу.
На протяжении всей книги, с самого ее начала, Гришаев выясняет отношения с субъектностью своих адресатов, реальных и фантомных: «Вы это искорка от солнца / Ты копошится под землей / Вы это тонкое и рвется / Ты собирается домой / <...> Тебя ушедшую как брата / Прошу мой брат останься ты». Собственно, братство, как подсказывает заглавие книги, — ключевой мотив. И дело не в том, что брат уходит, а в том, что говорящий не может найти братство в себе, хочет его вернуть. «Останься, брат» значит: останься моим братом внутри меня. Чувство общности и родственности вспоминается как райское: «Сохрани это в облаке, что ли. / <...> На дровах, за сараем шатким, / Где сидели мы, обнажив / Наши души и приникая / К другу друг...» Очень разные по письму (мы вернемся к этому впоследствии), стихи в книге пытаются стать братьями предметам и людям, о которых они написаны.
За каждый шаг в осеннем этом дне,
В безвременном ноябрьском овраге,
Я чай свой допиваю — мнится мне:
Стоит сестра,
Тонка, как из бумаги,
В прекрасных отблесках костра.
В том и дело, что только мнится. Обратим внимание на звукопись «мнится мне» — она говорящая: ища сестру, я натыкаюсь на «меня», на зеркало. Гришаев говорит об этом открыто:
Сравнение дятла и ветки,
Луга и леса.
Сравнение ветки и леса.
Ветка плывет по реке, не имея веса.
В зеркало вглядываешься: черты лица
То деда, то матери, то сестры, то отца.
И зеркало и лес, традиционные порталы в потустороннее — важнейшие мотивы книги; в их пространстве и проходят поиски родства. Критики отмечали нарративность поэзии Гришаева — но, если мы правильно понимаем, речь не о сюжете, а скорее о том, что Гришаев намечает точки опоры для историй, для биографий. При этом традиционные точки опоры — например, документы, фотографии — не работают: «А у Семёновых в фотоальбоме / Живее всех / А у Смирновых в фотоальбоме / Мертвые все не смотри / А у Захаровых в фотоальбоме / Искры из сердца / А у Андреевых в фотоальбоме / Хлам». Значит, приходится изобретать что-то новое, искать во всех направлениях. Здесь порой возникают выморочные персонажи: «Знаю я, что Дёмин хилый / <...> По ведомству Дёмина мышь / По ведомству Дёмина моль» или «Амфетаминов и Кетаминов / Зашли в аптеку купить витаминов». Они как бы не совсем существуют — занимают промежуточное положение между «гусиками», которых можно только увидеть по телевизору или услышать в народной песне, и ежиком, который останется в квартире, после того как его хозяина арестуют. Нарративность проявляется в особенности в стихах о родстве — о людях, поговорить с которыми можно только в уме и в тексте — и разговора не получится:
 Вошел отец и ложится спать.
Вошел отец и ложится спать.
Я говорю: ты же умер, поговорим давай.
А он мне: очень устал, и в одежде, как есть, на кровать.
Я ботинки с него снимаю.
Посижу рядом немного, посмотрю,
А потом и сам лягу, вставать рано.
Он уйдет из дому, пока я сплю.
Ноги из-под одеяла
Худые пахнущие торчат.
Его снова нет, я уже представляю.
Вот и тела наши скованные молчат,
Будто двери тяжелые приоткрывая.
Здесь вспоминаются стихи о роковой дискоммуникации: «Блудный сын» Слуцкого, «Жена» Гандельсмана, в особенности «Памяти отца: Австралия» Бродского. Гришаев, заклиная остаться отца, брата, сестру, растения и животных («Вы выхухоль, / Я ящерица, / Конечно. / Мы родственники навсегда»), продолжает эту традицию: вся книга кажется памятником восстановлению связи между очень далекими точками. Между этими точками, иногда кажется, ничего и нет, кроме воздуха. Это стихи, сделанные неплотно, разреженно, порой кажется, что мы читаем последователя Всеволода Некрасова: «Русские великие стихи / Русские великие сугробы / Русские великие зайчики и белочки // Мальчики и девочки // Вы русские? / Вы местные? / До чего ж прелестные».
Но воздух в этих стихах — наэлектризованный. Читать книгу «Останься, брат» все равно что двигаться через мощное силовое поле, преодолевать ее воздействие, оттого она — поделимся собственным опытом — читается так медленно. Может быть, на это ощущение, на это затрудненное движение по книге влияет привычка числить Гришаева по формально-традиционалистскому ведомству — сейчас уже ничем не оправданная. Очевидно, что за последние годы он сделал выбор в пользу полистилистики, формального разнообразия — и позволил повлиять на свое письмо многим голосам современников: помимо уже названного Некрасова, здесь угадывается пристальное чтение Линор Горалик, кажется, что Василия Бородина и Владимира Беляева. А может быть, влияет сам объем книги: здесь около 130 стихотворений; как ни просторно расставлены точки опоры, из них получается целый лес, мыслимый как отдельный организм. Такой безлиственный лес, кстати, запечатлен на обложке книги.
Гришаев здесь «берет числом». Он создает рощу, в которой легко заблудиться, отыскивая ответ на свое воспаленное чувство братства; в которой висит память о трагедиях («Спилили мальчика, / Спилили девочку / И дерево спилили») — и которая не признает героя своим: «Нет житья в перелеске когда-то родном / Всюду город теперь мерещится». Но выбрать окончательно между городом и перелеском оказывается невозможно, по крайней мере, в этой жизни.
Кира Фрегер. Куда Льюин Дэвис несет кота. Екб.; М.: Кабинетный ученый, 2020
Вторая книга владивостокской/московской поэтессы и фотографа Киры Фрегер — собрание небольших, камерных, порой минималистических текстов. Исподволь, незаметно, оперируя цитатами-маркерами, они подбираются к острой проблематике, в том числе политической: «будет всё так же особенно грустен твой взгляд // и 22 апреля когда ноликлашек начнут принимать в обнулята // а после торжественной клятвы / кормить их в макдаках / а после макдаков / свозить их далёко-далёко на озеро чад, // и 22 июля когда на мои шестьдесят / нас освободят и отправят назад под конвоем / миллионов выросших обнулят». «Мы» в этом стихотворении — сугубо частные люди. Обращения к адресату у Киры Фрегер нередко пронизаны тревогой, страхом перед угрозой: «опасайся зеркальных прохожих / они смотрят в обратном порядке». Герои этих стихов приучаются бояться своих желаний — а мир охотно предоставляет поводы для боязни, о чем здесь иногда говорится слишком прямолинейно:
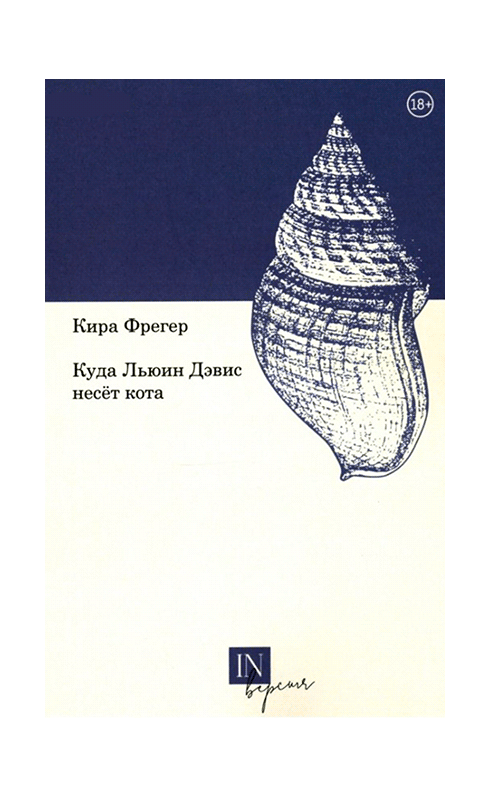 думаешь: времени б —
думаешь: времени б —
и в ответ
время остановилось
думаешь: снега бы —
вот и снег
в каждой снежинке — вирус
Впрочем, чем ближе Фрегер к любовной лирике, тем очевиднее страх и тревога вытесняются наружу. Середина книги состоит из текстов почти идиллических. Кинообразы в этих стихах — отсылки к Тарантино и братьям Коэнам, как, собственно в заглавном стихотворении про Льюина Дэвиса — намекают на совместный просмотр, получение общего опыта, а с другой стороны, становятся фильтром для идеализации партнера: «как бы под нового Тома Ёрка / под фоткой (я бы распечатал) где ты / с кислотною сигареткой / за 50 центов из лучшего в мире фильма — / Клифф Бут на 50 процентов // и на 50 — „неужели он настоящий?”» Звукопись, окказиональное словотворчество, каламбуры («дорогая столицая», «всенадцать лет», «сначала смотрит на оборот фотки, потом наоборот») у Фрегер работают на уплотнение стиха. Иногда они служат подсказкой для разрешения небольших загадок. «О чем здесь речь? А, вот о чем» — становится яснее.
стой и иди
ну а если сбываться начнет
вспомни 13:13
и прекрати
это о сложной тревоге
о ложном пути
Таких «зон непрозрачного смысла» (воспользуемся термином Дмитрия Кузьмина) в книге не слишком много. В целом это ясное высказывание — с эмоциональными переходами, в которых учтено место для читательского узнавания. Как говорят англичане — «I can relate to this».