Неопытный вертолет испугался
Поэтические новинки ноября
Стихи про фольклорную экспедицию и испуганный вертолет, хор слепцов на Китай-городе и столетняя антология русской поэзии — Лев Оборин рассказывает про поэтические новинки ноября.
Елена Михайлик. Экспедиция. Ozolnieki: Literature Without Borders, 2019
Елена Михайлик — профессиональный филолог, автор прекрасной книги о Варламе Шаламове. «Экспедиция» — сборник стихов, также имеющий дело с гуманитарным опытом: опытом фольклориста. Книга посвящена ученым, с которыми Михайлик долго общалась: Сергею Неклюдову, много лет изучавшему фольклор в Монголии, а еще «его семинару, лаборатории теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС и прочим действующим лицам». О «прочих» как раз и пойдет разговор.
Вообще говоря, «поэзия фольклориста» — то пространство, где возможно продуктивное выяснение отношений со своим материалом, нечто вроде супервизии. Так происходит в отличных стихах Леты Югай, но «Экспедиция» Михайлик — шаг в другую логику. Здесь, в текстах, где многое сказано об обрядах, запретах и предписаниях, одно из основных табу — на вовлеченность исследователя — нарушается. Соответствие этому можно найти в квантовой физике, которая толкует о непременном влиянии наблюдателя на наблюдаемые объекты. Но в случае с фольклором и антропологией куда более ощутим и внятен «человеческий фактор». Герои «Экспедиции», фольклористы современности, прошлого и далекого будущего, оказываются полноправными участниками культурного обмена между этим миром и потусторонним, включаются (иногда — «глазами информанта») в демонологическую иерархию. Это касается даже экспедиционного вертолета, который становится мужем монгольской человекоптицы:
 Но вертолёт — он железный,
Но вертолёт — он железный,
И неместного производства,
И неопытный — первый раз в поле, —
Что он понимает?
Он бы просто испугался
И не смог взлететь…
Это сейчас он отъелся,
Обнаглел
И на весенних скачках догнал
Самку хангаруды.
В общем, мы все теперь гадаем,
Какие получатся дети,
Нам обещали самого крупного.
Одновременно фольклорист подмечает, как те же метаморфозы происходят с другими пришлецами — например, с палеонтологами, которые угощают спиртным местных «хозяев» земли. В результате книга приобретает фундаментальное свойство фольклорного мышления — синкретизм, принципиальную нерасторжимость наблюдателя и объекта. Местами это напоминает прозу и поэзию Марии Галиной (особенно в рифмованных текстах, которые стоят в книге особняком, вне нумерации: «Да я что тебе, пишет геккон, змея? / Ты хоть Брема прочти, у него про меня статья, / у меня присоски — хочу я иль не хочу, / я на вакууме хожу — вот им и стучу»). Или, точнее, восходит к появившейся в русской поэзии в 2000-е просодической манере рассказывать истории. Долгая строка, рифменные уколы, предпочтение (как в устном рассказе) настоящего времени, установка на передачу чужой речи. Книга Михайлик иногда читается как имитация долгого разговора фольклористов после трудового дня, или даже целой смены, или большой международной конференции — потому что сюжеты здесь собраны со всего света. Опосредованное участие биографического автора угадывается, когда в стихах появляются австралийские географические названия: Елена Михайлик уже много лет живет в Сиднее. Иногда на свет извлекаются диктофоны и включаются аудиозаписи — стихи «Экспедиции» тяготеют к вербатиму:
Специальность? Нет, не надоела.
Я ее потом обменял —
На знание о том,
У кого в коллекции
В тот год
Не хватало рубля-80,
Отданного добровольно.
Небольшое смещение объективов — и вот уже одно на другое органично накладывается: Клод Моне существует в одной реальности с женой Октавиана Ливией Августой, а слегка демонологическая Светлана Анатольевна Иванова, экс-сотрудница Минобороны, оказывается одновременно и недопроявленной Афродитой, и азимовским роботом (то есть — с разных сторон — совершенством): «В родном институте / Светлану Анатольевну / Не боится никто, / Кроме студентов и аспирантов. / Тот, кто изучает фольклор, / Не может причинить вред тем, / Кто этот фольклор сочиняет, / Или своим бездействием допустить, / Чтобы им был причинен вред». Самое интересное, что это смещение оптики Михайлик, как и подобает ученому, тоже фиксирует, не стремится затушевать, часто строит вокруг него весь текст — например, стихотворение о том, как из-за опечатки в классическом научном труде изменился весь ход истории и вместо цивилизации варягов возникла разумная цивилизация варанов. Фокус на грани научной фантастики и балканского магического реализма. Но ближе к финалу книги становится ясно, что за вереницей историй вырастает фигура их собирателя — каталогизатора, систематизатора, соперника хаотических сил. Эта фигура тоже мифологизируется, собирается из аллюзий; в ней можно, неожиданно, увидеть черты Хармса и Шаламова.
В народной культуре чужак, случайный гость (а работающий в поле фольклорист — именно такая фигура), трактуется как существо, связанное с потусторонним миром (поэтому гостя принято кормить и поить: таким образом угощение передается и на тот свет, своим покойникам). Михайлик доводит до предела этот мотив двоемирия: университетский работник и после смерти, теперь уже как дух, продолжает опекать свои проекты и конференции.
Прихожу на работу, а директор мне вместо «спасибо»:
«Вон отсюда!
Изыдьте, — говорит, — пожалуйста.
Разберёмся мы с конференцией.
А у вас отпуск, технический, оплаченный.
До сорокового дня».
Это и смешно, и грустно — одним словом, трогательно по-настоящему.
Геннадий Каневский. Всем бортам. М.: Белый ветер (Tango Whiskyman), 2019
На московской презентации Геннадий Каневский целиком прочитал книгу «Всем бортам» с электронным музыкальным сопровождением Ксении Шнейдер. Звучало это точным попаданием — по-хорошему зловещим: «как будто не этот младенческий лепет, /а солнце последнее всходит и слепит». Каневский любит эсхатологию — возможно, потому, что после конца света начинается самое интересное: постапокалипсис, с его приспособлением предметов к новым задачам. Со стиранием прежних границ (как в финале «Стены» Pink Floyd): в книге «Всем бортам» несколько раз — не без эротической подоплеки — упоминается щель, прореха, в которую можно ускользнуть. Whimper после bang оказывается любопытным — и, что важно, человечным звуком.
человек печально увлечен
отсыревшим битым кирпичом,
аркою, окном, дверным проемом,
флигелем, плитой, доходным домом —
всем, что ни к чему и ни о чем.
Одна из самых интересных за последние годы статей о русской поэзии — предисловие Алексея Конакова к книге Арсения Ровинского «Незабвенная». Конаков пишет, что фрагментарность, свойственная не одному только Ровинскому, — это маркер тотальной усталости: поэзии, риторики, самого материала. Внимание к мелочам, к предметам-сиротам, к суффиксам — часть той же симптоматики. Может быть, это роднит поэзию Каневского с не похожими на нее, на первый взгляд, стихами Андрея Черкасова. В конце концов, мелочи, которые ты сам возвел в ранг искусства, могут спасти; «Всем бортам» — прекрасная книга для тех, кто близок к отчаянию. Каневский не дидактичен: говорящий в его стихах рассказывает, что помогает именно ему. Получается игра с самим собой, уловка, работающая в условиях выгорания. По знаменитому ильфо-петровскому афоризму об утопающих: тот, кто ищет избавления, сам творит его инструменты, наделяет окружающих людей или пейзаж спасительной эстетикой. К примеру, на станции метро «Китай-город» можно встретить прекрасную незнакомку или услышать «маленький хор слепцов»
но если твоя печаль
еще глубже
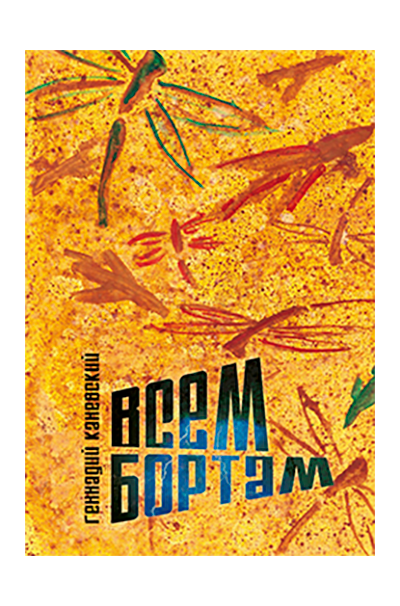 и слепцам не удалось
и слепцам не удалось
тебя от неё избавить
надо выйти
из так называемого
верхнего выхода
«китай-города»
там где лубянский проезд
резко спускается вниз
к москве-реке
где ясным февральским утром
на фоне голубейшего неба
вертикально стоят столбы
белого пара
из труб замоскворечья
будто звуки
из направленных в небо
медных труб духового оркестра
вдруг застыли
не желая покидать
теплое лоно
инструментов
Или можно в современном оммаже «Из Пиндемонти», «вертя булавочку картонного органа, / кораблик выстругав из мачтовой сосны, / доплыть и взять в ларьке бутылочку „апсны”, / и отменённою пробежкой календарной / дойти по берегу до площади нетварной, / базарной то есть, и закинуть невода / в свет незакатный, не ушедший никуда». Это текст характерный по рецептуре, но, пожалуй, чересчур игривый —приходится вспомнить, что Каневский начинал с традиционалистских, иногда даже эстетских текстов. Да и вина в ларьках давным-давно не продают. Усложненный, налившийся соками предметный мир в стихах Каневского — признак ностальгии. Но она, как правило, обрывается внятной исторической отсылкой:
и, в небесах невидимы, колёса
вращались, всех везя наоборот,
вниз головой, пристёгнутых ремнями,
задаренных дарами, комарами
искусанных — в тот уцелевший грот,
что слева до сих пор, а тот, что справа —
тот, призрачный — там некто иванов,
студент и труп, без тела и штанов,
и сверху надпись «царская любовь»,
а снизу штамп «народная расправа».
Такие длительные периоды в сборнике — редкость. Повторюсь: Каневскому все интереснее работать с фрагментом, порой в концептуалистском духе: «слово // пауза // слово // чуть более длинная пауза». Слово «пауза» — сильное, оно заставляет иначе читать и соседние более «традиционные» стихи, расставлять паузы в них. Я, впрочем, не исключаю, что на меня действует эффект авторского чтения, которое устанавливает для книги единую интонацию.
завтра не будет у нас печали,
снов, интернета —
практически ничего.
так привыкай к тому, что вначале —
тёмное пятнышко, после — пепел,
после — совсем черно.
Мне уже приходилось писать о Каневском как о стоике, и кажется, что с годами эта позиция усиливается. Его поэзия сохраняет сентиментальность, но изживает надрыв. Она принимает мир в его финальности. И понимает, какие исторические события, какие человеческие практики повлияли на то, чтобы эта финальность стала очевидной. «и эта ночь. / тупик. / заградотряд. // — ты рад? / — я рад».
Венеция в русской поэзии: Опыт антологии. 1888–1972. Составители Александр Соболев, Роман Тименчик. М.: Новое литературное обозрение, 2019
У литературоведа Олега Лекманова несколько лет назад выходила книга «Русская поэзия в 1913 году»: целью было показать поэтический срез, проанализировать, что наряду с великими, хрестоматийными авторами писали поэты массовые и даже дилетанты. Такой подход вносит довольно серьезные коррективы в расхожее представление о Серебряном веке. Огромная, 1100-страничная антология, составленная Александром Соболевым и Романом Тименчиком, служит похожей цели: здесь — в указанных хронологических рамках — собраны, вероятно, все русские стихи о городе, который всегда притягивал поэтов. Рядом с «золотой голубятней у воды» Ахматовой, «размокшей каменной баранкой» Пастернака и «рыжей речонкой» Ходасевича — репортажные маяковскообразные стихи Роберта Рождественского. Или поточная продукция эпигонов романтизма, символизма, акмеизма — которых, впрочем, такие доброжелательные и внимательные исследователи, как Тименчик и Соболев, охотнее назвали бы романтиками, символистами, акмеистами третьего или пятого ряда.
Люблю, Венеция, твой облик,
Твоих каналов аромат,
Гортанный гондольера окрик,
Забытый у палаццо сад.
Степан Чахотин
Сияли закатно знамена Венеции,
В лагунах тонко зеленела вода.
Шептал он: «С такими губами Лукреции
Не станете монахиней — никогда»
Нина Серпинская
Или вот: «Гондольеры с гондолами… мандольеры с мандолами… / Базилики с пьяцеттами… Монументы… мосты… / Все звенит канцонеттами, все поет баркаролами, / Все полно изумляющей голубой красоты» — удивительным образом Вадим Баян написал более северянинское стихотворение о Венеции, чем сам Северянин.
К каждой персоналии прилагаются подробнейшие комментарии — они занимают бóльшую часть книги. Здесь чувствуется рука Соболева, блестящего воскресителя забытых поэтов (см. его проект «Летейская библиотека»). Для авторов менее известных приводится «максимально возможный набор биографических сведений», а когда речь идет о поэтах хорошо изученных, то акцент делается на обстоятельствах их пребывания в Италии. Это целая энциклопедия нескольких поэтических поколений, труд большой значимости. Стихам, кроме того, предпослана большая статья «Венеция: исторический путеводитель» — здесь есть все, что только можно знать о венецианских поездках в XIX и XX веке: от оформления заграничного паспорта и стоимости билетов до отелей, ресторанов и непременных достопримечательностей. Соболева и Тименчика интересуют в первую очередь литераторы — и в ход идут письма, путевые заметки и официальные документы, особенно любопытные и «говорящие» в советский период. И, как и собственно поэтическая часть, историческая заканчивается рубежом 1960–1970-х, накануне появления в Венеции поэта, чье отсутствие — самая заметная, зияющая лакуна.
Это, конечно, Иосиф Бродский: в предисловии составители пишут, что он «условно обозначил… смену манеры в русской стиховой венециане». Эту смену манеры, однако, было бы полезно зафиксировать — особенно если учесть, что предыдущая манера настолько монолитна, что при чтении антологии глаз быстро замыливается и индивидуальные особенности перестаешь различать. Поэты, пишущие о Венеции, оперируют набором штампов: собор и кампанила святого Марка, дворец дожей (и сами дожи), каналы с их специфическим запахом, мосты и палаццо, гондольеры и баркаролы, сходство с Петербургом. Составители именуют этот набор «прописями». Даже стихи, «развенчивающие» Венецию, питаются этими топосами: пародируя в 1900 году Пушкина, Нестор Петровский пишет: «Прощай, Венеция гнилая!» — и дальше:
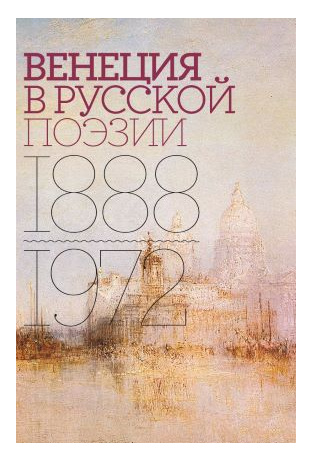 И пусть малюют нам маралы,
И пусть малюют нам маралы,
Пусть воспевают нам певцы
Твои вонючие каналы,
Твои облезлые дворцы —
В серьезность этих увлечений
Я — скептик — верить не могу
И из лагун, без сожалений
В курьерском поезде бегу.
Та же «Лагуна» Бродского, где венецианские топосы тоже заиграны, выглядела бы в книге эффектным контрастом. Возможно, здесь вмешались бы соображения копирайта, переговоров с наследниками — так или иначе, об отсутствии Бродского, все же одного из крупнейших поэтов, о Венеции писавших, читатель может только пожалеть.
В итоге мы имеем монументальное подтверждение составительского тезиса: «Обреченность на складывание чужих песен и произнесение их как своих в этом городе становится почти абсолютной». Перед нами поразительный, в общем, корпус текстов, которые стереотипными путями подходят к одной теме (за немногими исключениями, нарастающими как раз к середине века: назовем, например, стихи Якова Бергера). Кто-то делает это так, что кажется первопроходцем (Блок, Ходасевич). Кто-то — см. выше.
Соболев и Тименчик делают важную вещь: показывают, как складывается и канонизируется жанр — за теми пределами, в которых обычно понимаются жанры. Вероятно, такую антологию можно было бы составить и в связи с другими «местами силы» — в первую очередь напрашивается Париж. Собственно, даже автор этих строк не удержался и составил полушутливый сборничек стихов, которые русские поэты написали «по горячим следам» пожара в Соборе Парижской Богоматери — буквально в течение суток после этого несчастья. Пожар раскалил и множество штампов, связанных с Парижем и Нотр-Дам. В случае с Венецией штампы нарабатывались веками, а недавнее жестокое наводнение, попавшее во все новостные выпуски, подсветило их ореолом бренности — и туристы увидели то, что понятно местным жителям: Венеция, кажущаяся вечной, эфемерна. Об этом же — недавний перформанс Бэнкси, изобразившего гигантский круизный лайнер в венецианской лагуне. Отсутствующий в книге Бродский как раз звено, связывающее классическое восприятие Венеции с современным (стоит вспомнить и о стипендиях Фонда Бродского, позволяющих русским поэтам проводить несколько месяцев в Италии, в частности в Венеции). Современные венецианские поэтические антологии тоже существуют: так, в 2011-м выходил сборник 11 поэтов с офортами Кати Марголис — замечательно, что туда вошло стихотворение Александра Кушнера, присутствующего и в книге Соболева/Тименчика. Но выбор современных поэтов — всегда кураторский жест, противоположный энциклопедической всеохватности. Нам же стоит иметь в виду, что это не последний такой опыт в «НЛО»: на подходе большая антология инфинитивной поэзии, составленная Александром Жолковским.