Необходимость новой встречи
О книге Виктора Арсланова про философские основания русского искусствознания
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Виктор Арсланов. Русское искусствознание. Дворянская культура. Идея мимезиса. 1792–1925: в 2 т. Т. 1. Отвергнутое начало. Философские основания русского искусствознания. СПб.: Владимир Даль, 2024
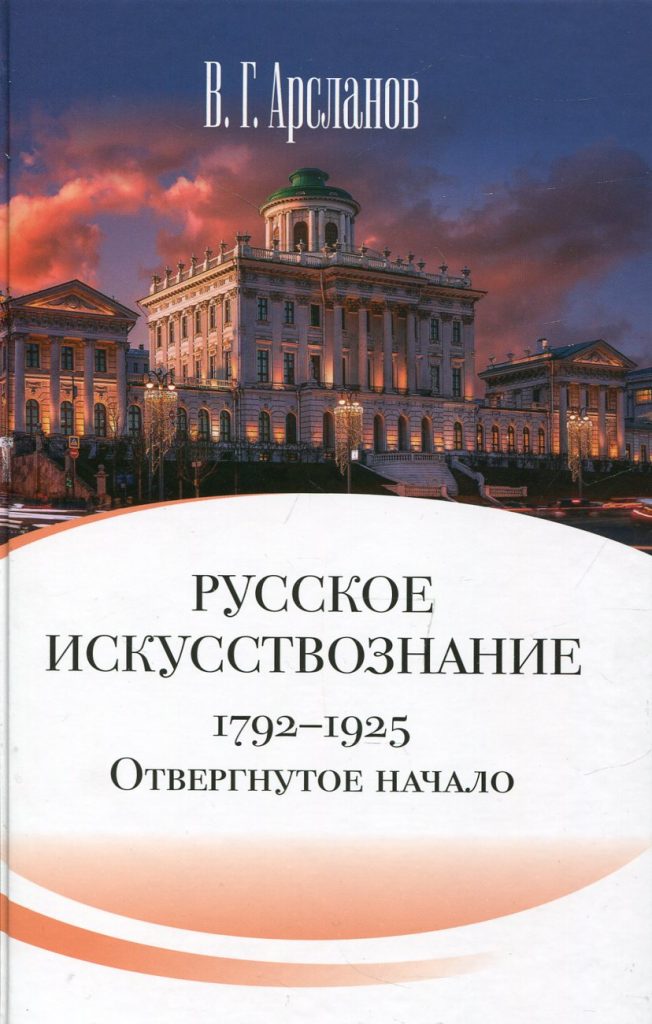 Книга начинается с размышления о раздвоении — все раздваивается. Но раздваивается для чего? Для того чтобы разойтись, да. Но не только. Все раздваивается и для того, чтобы встретиться.
Книга начинается с размышления о раздвоении — все раздваивается. Но раздваивается для чего? Для того чтобы разойтись, да. Но не только. Все раздваивается и для того, чтобы встретиться.
Что здесь будет первичным, важнейшим? Конечно, момент встречи. Встреча есть нечто положительное. Однако то, каким окажется это положительное, зависит и от отрицательного — от расхождения. Что, раздвоившись, разойдется и что в конце концов встретится?
Да, всякая вещь раздваивается, она множится, различается, образуя сложные единства внутри себя, выводя что-то во вне и наоборот. Так образуется множество нового — в конце концов, именно так описывал когда-то и Гегель в своей философии величайшую тайну: как может развиваться нечто абсолютное, то, в чем уже есть все, что и есть все?
Одним из важных открытий Гегеля была мысль, согласно которой, несмотря на необходимость всего нового, возникающего в процессе этого раздвоения, различения и т. д., это новое оказывается неоднородным. Оно имеет разную ценность — где-то дух обнаруживает себя в более, где-то в менее адекватной форме. А отсюда следует необходимый вывод: предметы неоднородны, в них есть качественно, содержательно различные части. И если это так, то познание предмета зависит от того, какой частью он нам откроется. На этом, между прочим, основана и гегелевская Эстетика, видевшая единый процесс развития единого содержания, истины в чувственной форме, проходящим сквозь различные виды и жанры искусства.
Несколько неожиданно, но тема встречи — центральная этой книги. Центральная она и для одного из героев ее — для Александра Ивановича Галича, русского шеллингианца, профессора философии Петербургского университета. И это не случайно, ведь именно полузабытая сегодня система идей Галича неожиданно оказывается ключом к истории русской науки об искусстве, той точкой, заняв которую становится возможным обозреть эту историю и, самое главное, присущее ей, развивающееся в ней содержание в верных пропорциях.
Итак, центральная идея книги — встреча. Но что же здесь встречается с чем или кто с кем? Встреча реального и идеального, встреча духа и материи, встреча мировой истории и истории России, встреча друзей, встреча любви, встреча разных персонажей — в том числе и встреча их на своем пути, встреча разных времен, в конце концов, встреча ответов с вопросами. До известной степени это и встреча произведения искусства и взгляда, на него смотрящего, — но взгляда не простого, а способного, научившегося, благодаря этому произведению, видеть. Такой взгляд греки называли θεωρία, а мы зовем сегодня теорией — теорией искусства.
Русская теория искусства, русское искусствознание (как называется эта книга), тоже по-настоящему родилась из встречи — встречи тех особых исторических условий, оформившихся к концу XVIII — началу XIX веков в России, и старинной, античной по своему происхождению идеи μίμησις.
Конечно, встречи бывают разные. Несколько возвращаясь к началу этого разговора, можно сказать, что некоторые встречи обретают то, что делает их тем, чем они являются (сущность по Аристотелю), не столько из самих себя, сколько из того, что в них не вошло — не положительно, а отрицательно.
И в связи с этим важной темой книги являются встречи не только случившиеся, но и те, которые не состоялись. А ведь и они бывают разные — бывают такие не-встречи, которые стоят иных встреч, впрочем, бывает и наоборот. Здесь сразу вспоминается рассказанная в книге история Надеждина и его возлюбленной, побег которых пытался организовать старый друг Александра Герцена — Николай Христофорович Кетчер.
В конце концов, вопрос встречи — это еще и вопрос выбора, пусть и в каких-то заранее установленных пределах. Невольно вспоминается позиция знаменитого венгерского философа Дьердя Лукача, характеризовавшего свои отношения с великими людьми того времени словами гетевской Филины: «коли я люблю тебя, что тебе до того». Между прочим, в «Поэзии и правде» Гете вспоминает эти слова Филины в связи с мыслью Спинозы: «Кто доподлинно возлюбил бога, не станет требовать, чтобы бог отвечал ему тем же».
Итак, встречи вообще бывают разные, а встречи в мире идей — в особенности. И не так уж важно, идет ли речь об идеях в смысле Платона, находящихся где-то там, куда мыслитель указывает на фреске Рафаэля, или о них же, но в нашем современном понимании, находящихся у нас в голове.
Но от чего же зависит, какой будет встреча? Конечно, прежде всего от самого содержания идей. Но не в последнюю очередь и от обстоятельств, делающих это содержание доступным друг другу. И в этом смысле чрезвычайно характерна встреча формального содержания нашей сегодняшней мысли, наших сегодняшних идей и взглядов на искусство с формальным содержанием мысли и представлений о нем XVIII и XIX веков.
Хорошим примером выступают здесь идеи А. И. Галича — пожалуй, главного героя этой книги, а также человека, личность и идеи которого служат ключом к пониманию истории русской науки об искусстве.
Итак, формальная встреча с Галичем сегодня не даст нам ничего существенного — это во всех отношениях несовременный мыслитель, до известной (значительной) степени вторичный, часто даже не по отношению к фигурам масштаба Шеллинга, а к западноевропейским мыслителям второго и третьего порядка. Он не заметил Гегеля, зато его заметили современники, например гегельянец Белинский, посмеявшийся (и вполне справедливо) над одним из его сочинений. Все это есть в книге.
Но что если обстоятельства встречи с идеями Галича изменятся? Если это будет уже не формальный прием, а разговор по существу — такой, о котором когда-то говорил Герцен, рассуждая о Базарове и о современных нигилистах: дайте два часа серьезного разговора, и о главном мы договоримся. Между прочим, в свое время у Герцена два таких часа состоялись с Чернышевским, и они договорились о главном.
В известном смысле книга Арсланова и представляет собой такого рода разговор — прежде всего с Галичем, но через него и с центральными фигурами разных времен: с Пушкиным, с Надеждиным, с Чернышевским, с Набоковым, с Хайдеггером, Шпетом, со многими другими. Она обращается — и это методологический прием — с историческими героями и их идеями не как с предметом формальной истории, а как с чем-то, что существует здесь и сейчас, как с реально действовавшими и действующими силами.
У Бруно Латура есть одна неплохая метафора, ставшая заглавием для его статьи, — «Когда вещи дают сдачи». Вне зависимости от того, что и в каком контексте сам Латур хотел вложить в эту метафору, можно сказать, что речь идет о ситуации, когда материал исследования представляет собой не простой сгусток аморфной массы, не мертвый объект современного сциентистского естествознания, с которым можно делать, что пожелаешь, не «калужское тесто», пользуясь словами Кавелина о русском народе, которое можно замесить, как нужно, а нечто содержательно независимое, нечто со своими законами, нечто способное дать сдачи, то, что заставляет с собой считаться.
Вот и исторические герои, их идеи и судьбы, их встречи и не-встречи — книга Арсланова обращается с этим материалом так, что он оказывается способным дать сдачи, она дает ему волю, если хотите, провоцирует его, вызывает к самодеятельности — и он, что самое удивительное, отвечает. Причем достигается это чрезвычайно интересным путем: исторические персонажи и их идеи (к примеру, Чернышевский, которому посвящено тут много важнейших страниц) открываются здесь в эстетической перспективе — голосом от первого лица, диалогами друг с другом. Так эстетическая или диалектическая точка зрения, пользуясь словами Фихте, также цитируемыми в книге, связывает бесконечное и конечное: эстетические теории будто безмерно далеки от нашего времени, от того места, в котором нам выпало действовать или бездействовать, их авторы уже давно отошли в вечность, однако на страницах книги Арсланова они говорят прямо, связывая далекое и близкое, не стирая границ между ними.
Вернемся к Галичу, человеку, имя которого почти никому и почти ничего не скажет сегодня. Формально он был эклектиком, и книга не скрывает этого. Но к чему нам сегодня обсуждать эклектизм Галича? Почему это вообще должно волновать кого-то, кроме цеховых специалистов, находящих особое удовольствие во всевозможной археологии знания?
В лучших, содержательных, наиболее важных своих моментах книга Арсланова не оправдывает эту эклектику, эту вторичность или даже отсталость, и все же как бы говорит, что не только вопреки этой отсталости (что было бы пустым оправданием), но отчасти и благодаря ей (что куда интереснее) Галич сумел сказать что-то такое, чего не смогла формально несравнимо более прогрессивная современность, подобно тому как, к примеру, в эпосе Гомера, согласно знаменитой мысли Маркса, несмотря на всю его наивность по сравнению с нашим современным взглядом на жизнь, заключается вечное обаяние, нечто недоступное искусству нашего времени, нечто такое, о чем современному художнику приходится только мечтать. Мечтать, увы, настолько безнадежно, что часто эти мечты заводят его совершенно не туда.
Подобный взгляд на историю мысли, историю искусствознания задает совершенно иное отношение к ценному в ней, к тому, что стоит сохранять, чему стоит учиться, тому, в конце концов, ради чего стоит вообще к этой истории обращаться, поскольку в противном случае эта самая история окажется простой свалкой ненужных, устаревших идей.
Да, Галич во многом устарел (не в последнюю очередь в плане языка, читать его крайне тяжело), однако есть в этой устарелости нечто такое, хоть и неразрывно с ней связанное, но все же заключающее в себе великую ценность, нечто утраченное последующей историей мысли, — не случайно первый том исследования носит подзаголовок: «Отвергнутое начало».
В этом смысле книга не только открывается рассуждениями о встрече, но и приводит к ней — к необходимости новой встречи, встречи сегодняшнего уровня развития знаний, сегодняшнего исторического опыта, сегодняшнего состояния предмета с перспективой взгляда, зачастую утраченной, подтверждая правду знаменитых слов Гегеля о том, что истинное, т. е. подлинное, настоящее, начало обретается всегда в конце. Не в этой ли встрече кроется громадный ресурс для развития современной науки об искусстве?
Впрочем, а надо ли ее развивать?
Само искусство, утверждает автор, есть встреча — встреча идеального и реального, бесконечного и конечного, оно необходимо миру. Но не слишком ли глобальные, не слишком ли значительные вопросы здесь поднимаются? Стоит ли вообще заниматься искусством так, что оно становится необходимым элементом глобального, если хотите, космогонического процесса? В конце концов, идет ли искусству поза платоновского демиурга, бога-ремесленника? Может быть, лучше сосредоточиться на чем-то меньшем? Как гласит старинная мудрость, если хочешь навести порядок, начни со своего дома.
В искусстве, как говорил Александр Галич, человек дает природе ее «самообраз», он спасает вещи. И все же, может, лучше было бы не решать загадки, которым миллиарды миллиардов лет, не спасать дух бытия, а здесь, на Земле, немного со всем разобраться? Той ли встречи, иными словами, мы тем самым ищем?
Последний вывод книги — и, пожалуй, важнейшая ее мысль — звучит так: да, той, ведь без нее, без встречи идеального и реального, бесконечного и конечного, не будут в порядке самые маленькие, самые, казалось бы, далекие от глобальных вопросов мироздания дела и здесь на Земле.
Да, в искусстве (но не только) мы отходим от них, но отходим ради того, чтобы увидеть их в истинном свете и тем самым по-настоящему вернуться к ним. И как конечное раскрывается лишь с точки зрения бесконечного, так и само бесконечное перестает быть пустой абстракцией, лишь облачившись в конечную, земную, ограниченную форму. Пользуясь словами Гегеля, можно сказать, что это — момент рефлексии и опосредования. Но живой, пластичной рефлексии, материального, чувственного опосредования — это момент свободы, без которого любой наш порядок на Земле, увы, с неизбежностью обернется противоположностью, хаосом и кошмаром.